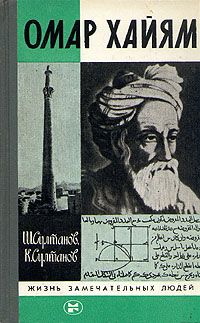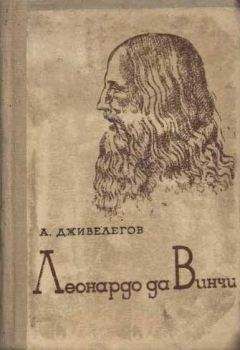Причем Омар Хайям не только создавал четверостишия, но и, вероятно, возвращался к тем, которые написал ранее. Если согласиться с этой точкой зрения, то тогда могут быть понятны и вполне объяснимы таким путем возможные варианты рубаи, дошедших до нашего времени в различных рукописях.
Одна из центральных на первый взгляд тем в рубайяте — тема вина. Причем она появляется в сочетании о самыми различными проблемами и мыслями. Мы уже говорили, что только предельно ограниченное мышление способно сделать вывод, что такого рода рубаи — гимн бездумному и бессмысленному пьянству. Повторим вновь: слова о вине у Хайяма следует интерпретировать как прямой вызов ортодоксальной духовной тирании. Известный английский востоковед Дармстетер писал в своей книге о персидской поэзии: «Человек непосвященный сначала будет удивлен и немного скандализирован тем местом, какое вино занимало в персидской поэзии. Однако в ней нет ничего общего с нашим vandevires (вакхические песни XV века. — Авт.) и застольными песнями. Застольные песни Европы — песни пьяниц; в Персии же это — бунт против Корана, против святош, против подавления природы и разума религиозным законом. Пьющий для поэта — символ освободившегося человека».
Но для Хайяма вино — это не только символ бунта против ортодоксии. Тема вина, настойчиво повторяющаяся в различных комбинациях, служит вообще символом постоянного освобождения человека, его индивидуальности, освобождения для обретения своей истинной ценности, тотальности.
Имея все это в виду, пройдем по тем кругам, которые составили мятущийся душевный мир великого поэта и мыслителя.
ШЕСТОЙ КРУГ ОМАРА ХАЙЯМА. ОРТОДОКСЫ ИСЛАМА
Один из основных противников Омара Хайяма — открытые враги познания: консервативные факихи, ортодоксы сунны. В чеканных строках рубайята поэт-философ высказал во весь голос всю свою ненависть, разящую иронию, едкий сарказм в отношении этих врагов свободомыслия, столпов невежества.
Центральное место в воззрениях ортодоксальных факихов занимала идея антропоморфного бога. По сути же, этот всемогущий человекоподобный Аллах, по сравнению с которым, однако, реальный человек — ничто, представлял собой своего рода идеал восточного деспота.
Доводя до крайнего абсурда антропоморфизм рьяных ортодоксов, Хайям, издеваясь, пишет:
Ко мне ворвался ты, как ураган, господь,
И опрокинул мне с вином стакан, господь!
Я пьянству предаюсь, а ты творишь бесчинства?
Гром разрази меня, коль ты не пьян, господь!
Злой иронией проникнуто и другое четверостишие Хайяма, в котором он также высмеивает бессмысленный антропоморфизм факихов:
Когда б я отравил весь мир своею скверной —
Надеюсь, ты б меня простил, о милосердный!
Но ты ведь обещал в нужде мне руку дать:
Не жди, чтоб сделалась нужда моя безмерной.
И в общем-то ясно, что консерваторы ислама не зря ненавидели богохульника Хайяма. Ибо образ примитивного и злобного, мстительного и мелочного Аллаха, удивительно вписывавшегося в социальную структуру феодального общества, не мог не вызывать у мыслителя едких и гениальных по своей иронии строк:
Ты, всевышний, по-моему, жаден и стар.
Ты наносишь рабу за ударом удар.
Рай — награда безгрешным за их послушанье.
Дал бы что-нибудь мне не в награду, а в дар!
Как известно, ортодоксы считали, что все поступки человека предопределены Аллахом с самого начала. Человек оказывался в этой картине мира простой бесцельной куклой в руках всевышнего. Но тогда, в соответствии же с этой логикой, все зло в этом мире от всевышнего, который оказывается величайшим и страшным тираном на свете:
Наполнил зернами бессмертный Ловчий сети,
И дичь попала в них, польстясь на зерна эти.
Назвал он эту дичь людьми и на нее
Взвалил вину за зло, что сам творит на свете.
Более того: бог у ортодоксальных суннитов оказывается в соответствии с их же логикой и подлым, низким существом.
Когда ты для меня слепил из глины плоть,
Ты знал, что мне страстей своих не побороть;
Не ты ль тому виной, что жизнь моя греховна?
Скажи, за что же мне гореть в аду, господь?
А впрочем, саркастически восклицает Хайям, может быть, совершение греха — это и есть подлинное служение Аллаху:
Если я напиваюсь и падаю с ног —
Это богу служение, а не порок.
Не могу же нарушить я замысел божий,
Если пьяницей быть предназначил мне бог!
Невежественные факихи бессмысленно повторяют, что их бог милостив и милосерден. Нет, утверждает Хайям, в соответствии с вашими же доказательствами оказывается, что ваш Аллах отнюдь не милостив и не милосерден:
Ты к людям милосерд? Да нет же, не похоже!
Изгнал ты грешника из рая отчего же?
Заслуга велика ль послушного простить?
Прости ослушника, о милосердный боже!
А впрочем, нет, саркастически поправляется Хайям, этот ваш бог действительно «милосерден».
Мы грешим, истребляя вино. Это так.
Из-за наших грехов процветает кабак.
Да простит нас Аллах милосердный! Иначе
Милосердие божье проявится как?
Ваш бог — обращаясь к ортодоксам, приходит к заключению Хайям — так же глуп и безумен, как и вы сами:
Этот мастер всевышний — большой верхогляд:
Он недолго мудрит, лепит нас наугад.
Если мы хороши — он нас бьет и ломает,
Если плохи — опять же не он виноват!
Невежественной болтовней о какой-то неведомой справедливости официальный ислам освящал каждодневные горести и страдания. И голос Хайяма звучит как протест против жестокого и несправедливого бога-деспота, которым прикрываются мерзости жизни:
Если мельницу, баню, роскошный дворец
Получает в подарок дурак и подлец,
А достойный идет в кабалу из-за хлеба —
Мне плевать на твою справедливость, творец!
Но Омар Хайям выступает не только против противоречивых догматов ортодоксов и их жестокой и примитивной концепции бога, но он вскрывает и социальный фон этой ортодоксии: официально одобренное лицемерие, ложь, ханжество, притеснения самих правоверных мусульманских богословов.
Блуднице шейх сказал: «Ты, что ни день, пьяна,
И что ни час, то в сеть другим завлечена!»
Ему на то: «Ты прав: но ты-то сам таков ли:
Каким всем кажешься?» — ответила она.
Хоть я и пьяница, о муфтий городской,
Степенен все же я в сравнении с тобой;
Ты кровь людей сосешь — я лоз. Кто кровожадней,
Я иль ты? Скажи, не покривив душой.
…Однажды во дворце визиря после роскошного угощения Омар Хайям лениво слушал рассуждения аль-Газали. Последний любил публичные выступления и действительно выглядел импозантно, когда говорил в черном в заплатках суфийском одеянии, с горящими глазами, постоянно окруженный двумя-тремя мюридами.
Аль-Газали рассуждал о том, что над низшим чувственным материальным миром («мир обладания») возвышается средний, духовный мир, мир идеальных прообразов вещей, и высший мир, «мир господства божьего». Мир обладания находится в постоянном изменении, а мир господства существует благодаря вечному и неизменному решению, поэтому он неизменяем и вечно сохраняется в одном и том же состоянии. Средний мир, «мир могущества», занимает среднее положение между низшим и высшим мирами.
Аль-Газали утверждал, что чистые души людей принадлежат к «миру господства», они вышли из него и в него возвратятся после смерти. Но и в земной жизни души могут входить в контакт с этим высшим миром во сне, в грезах и в состоянии мистического экстаза.
Все это Омару Хайяму уже было известно. Но к тому, что далее стал говорить аль-Газали, он стал прислушиваться более внимательно.
Хотя, рассуждал Газали, в своей сущности природа души человека богоподобна, не во всех людских душах отблеск божества отразился одинаково. Подобно иерархии трех миров, существует три рода человеческих душ. Есть люди, в которых влияние чувственного мира преобладает над духовным началом. Эти люди не способны к самостоятельной духовной деятельности. Они должны довольствоваться прямым, без размышлений и толкований, чтением Корана и хадисами, следовать неукоснительно предписаниям шариата и религиозных авторитетов. Для таких людей общеобязательное религиозное учение — их жизненный хлеб, ибо они не способны понимать внутренний смысл священного писания. Низшим душам нельзя открывать высшие тайны религии — эзотерическое учение.