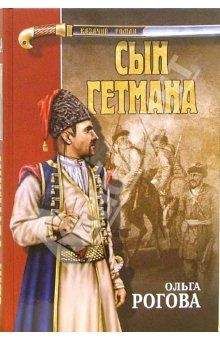– Изменник он – вскрикнул Хмельницкий. – Хоть ваша княжеская милость и зять его, но я скажу, что готовлюсь воевать с ним. Он обещал выдать свою дочь за сына моего Тимофея, да так и не отдал. Много у него грошей, а у меня людей. Разграблю его сокровища и накажу его вероломного. Князь побледнел от гнева, но удержался и, пробормотав что-то, вышел из-за стола. Ивашко, недалеко сидевший от Хмельницкого, тоже незаметно встал и прокрался, как кошка, в темный угол, где Радзивилл горячо толковал о чем-то с панами. Через несколько минут, бледный, с горящими глазами, подошел хлопец к Хмельницкому и нагнулся к его уху.
– Батько, тебя отравить хотят! – прошептал он. – Не пей вина, которое подадут!
Через полчаса в шатер внесли на огромном подносе заздравные кубки. Для Хмельницкого стояла особая чарка художественной работы с инкрустациями.
Все встали из-за стола. Загремела музыка, раздались пушечные выстрелы. Из казацкого лагеря отвечали тем же.
– Да здравствует король! – громко проговорил Потоцкий, высоко поднимая кубок.
Хмельницкий снял шапку, почтительно наклонил голову, но не притронулся к чарке.
– Предлагаю тост за все благородное шляхетство! – предложил Радзивилл.
Все снова обнажили головы, но Хмельницкий угрюмо нахлобучил шапку, судорожно схватил кубок, стукнул им по столу и вышел. Паны бросились за ним.
– Пан гетман, куда же? Мы еще будем пить за здоровье пана.
– Благодарю! Мое здоровье у панов может совсем расстроиться! –отвечал он.
Вместо коляски гетмана, ему подали прекрасного коня в богатой сбруе. – Что это? – с удивлением спросил он.
– Это подарок вашей милости! – отвечали слуги.
– А, щедроты вашего Потоцкого? – обратился он к панам. – Благодарю его, как гетмана, победителя и союзника, а за коня готов ему одарить тремя стами подобных.
Он вскочил на коня и помчался, сопровождаемый Ивашком. Коляска едва поспевала за ними.
На полдороге гетман остановился, соскочил с коня, пересел в коляску и задумчиво поехал в табор.
24. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К МОСКВЕ
Ой служив же я служив пану католику,
А теперь ему служити не стану до вiку!
Ой служив же я служив пану басурману,
А теперь служити стану восточному царю!
Прошло больше двух лет. Стояла крепкая, погожая зима. В Переяславле праздновали канун нового года. Просторный, удобный дом полковника Тетери был освещен сверху донизу. Тяжелые дубовые двери то и дело отворялись, и хлопы сновали взад и вперед по двору. Когда дверь отворялась, из дома вырывался гул множества голосов, смешанный со звуками музыки.
Полковник принимал дорогих гостей, московских послов, боярина Бутурлина со свитой. Тучный боярин, в дорогом кафтане, вышитым золотом, с драгоценными камнями вместо пуговиц, важно сидел в высоких креслах. Возле него сидели думный дьяк Лопухин и окольничий боярин Алферьев.
Полковник недолюбливал русских; он первый настойчиво советовал Богдану Хмельницкому не вступать в союз с Москвой, но теперь, как хозяин города, должен был радушно принимать гостей. Они говорили о посторонних вещах, о житье-бытье на Руси, об охотах на дикого зверя… Боярин, с ловкостью дипломата, несколько раз старался навести разговор на интересовавший его предмет, но казак тоже был хитер и в ловушку не давался.
– Не знаю, – отвечал он наивно на все расспросы боярина, – то дело батька, вот приедет он и переговоришь с ним обо всем. Наше же дело казацкое: иди, куда скажут, бей кого велят.
– Да скоро ли приедет его милость Богдан Михайлович? – спрашивал посол.
– Не могу тебе этого сказать. Он теперь и недалеко, да через Днепр-то переехать невозможно. Морозы настали недавно, лед еще не окреп.
– А где он теперь? – осведомился Лопухин.
– Да в Чигирине, – со вздохом ответил Тетеря. – Не везет ныне нашему батьку. Трех лет не прошло, как любимую жену схоронил, а теперь старшего сына хоронит.
– Что ты говоришь? – с участием спросил посол. – Разве он овдовел?
– И овдовел и снова женился, – отвечал полковник. – У нашего батька все скоро делается, и полгода не вдовел.
– На ком же он женился? – спросили послы.
– На сестре нашего полковника Золотаренко. Эта, не то что вторая его жена. Та была белоручка, панского рода, а эта настоящая казачка. Она нашего батька в руках держит и до горилки его не всегда допускает.
Послы засмеялись.
– А с чего же его сын умер? – спросил Бутурлин.
– Да разве вы не слыхали? – с удивлением спросил он полковников. – Он за тестя своего сражался, там и убит. Сюда привезли мертвого; гетман встречал на дороге.
– Вот какие дела! – покачивая головой, проговорил со вздохом боярин и перекрестился. – Ну, царствие ему небесное! Славный был воин. Слышал я, как он по пути в Молдавию на гетмана Калиновского напал.
– Да, жаль хлопца! – проговорил полковник. – Мог бы еще долго жить и гетмановать.
– А что, разве Богдан Михайлович не крепок здоровьем? Он, кажется, еще мужчина в цвету.
– Не то, чтобы не крепок, а прихварывает.
– Может и нечисто дело? – вполголоса проговорил Бутурлин. – На вашего гетмана многие зубы точат. Слышали и мы, как ему князь Радзивилл зелья подсыпал.
– Бог его ведант, – задумчиво отвечал полковник. – Мало ли лихого народа на свете.
В углу за небольшим столиком сидели молодой казацкий полковник и русский боярин из свиты Бутурлина. Полковник был наш старый знакомый Довгун; только он в последние три года сильно переменился, возмужал, отрастил длинные полковничьи усы и молодецкий чуб.
– Вот где привел Бог встретиться! – говорил он рыжему, рябоватому своему собеседнику, с наивным удивлением рассматривая его богатую одежду. – Как же ты, Никита, в бояре-то попал?
– Да так, на Сечи мне стало жить неспособно, я и уехал в Москву, а там уж недолго выслужиться было, батюшка царь Алексей Михайлович очень меня любит; вот ныне и пожаловал в бояре.
– Да за что он тебя в бояре-то пожаловал?
– За особые заслуги! – с улыбкой отвечал бывший запорожец. – Мой совет теперь русскому царю нужен. Как задумал царь взять под свою державную руку Украину, он и стал советоваться с надежными людьми. Вот тогда-то я в милость и попал. Живут при московском дворе два грека, Иван да Илья. Я с ними еще раньше на Запорожье был знаком. Они меня и представили батюшке царю; с тех пор я в гору и пошел.
– А хорошо живется в Москве? – спросил Довгун.
– Как тебе сказать: живется недурно, если только умеючи пристроиться. Казаков теперь много бежит к нам из Украины. Всем им места хватает, и никто из них назад не ворочается, значит, живется не худо. А ты как?
– Да вот подумываю и я к вам на московскую землю переселиться.
– Что так? Я слышал, ты в чести у пана гетмана.
– Был когда-то в чести, – угрюмо проговорил Довгун. – А нынче уж больно трудно с ним ладить. Побратимствует с татарами, слушает своего полячишку-писаря, а нас, казаков, и знать не хочет. Нынче даже не велел ехать с ним на похороны Тимоша. "Не надо, говорит, и без тебя там казаков довольно". А, ведь, знает, я с Тимошем товарищ был. Вот женюсь да и уеду от него.
– А на ком ты женишься-то?
– На Катре.
– Это на той девушке, из-за которой тебя на Сечи чуть было не повесили? – спросил Никита, усмехаясь. – Уж ты на меня, братец, не посетуй, – прибавил он. – А я на тебя никакого зла не держу за батоги. Если бы не ты, мне бы никогда не попасть в Москву.
– Это кака так? – удивился Довгун.
– Да мне за батоги, да за тебя никто в Сечи проходу не давал, я и утек оттуда. Вышло, что ты первый зачинщик моего счастья, – прибавил он, смеясь. – Если задумаешь собраться в Москву, спроси только боярина Никиту Ивановича Кустарева. А я для тебя сделаю все что, могу.
– Спасибо, товарищ! – отвечал Ивашко. – Вон ваше бояре из-за стола поднимаются; теперь пойдет прощальное угощенье, надо и нам к остальным присоединяться.
Целую неделю прожили бояре в ожидании гетмана; только в день Крещения, 6-го января, он, наконец, приехал. Бояр он встретил ласково, с достоинством и, когда они стали торопить его принятием присяги, ответил им:
– Я сам рад покончить поскорее с этим делом. Вот только семейное горе задержало. Послезавтра мы назначим генеральную раду и присягнем милостивому государю московскому.
Поздно вечером зашел к гетману Довгун и, низко поклонясь, сказал:
– Батько, я к тебе по своему делу.
– Что скажешь, пан полковник? – с усмешкой проговорил Богдан, покуривая люльку и выпуская дым через свои полуседые усы.
Он сильно изменился, постарел, обрюзг; не было прежнего блеска в глазах, не было недавней еще живости в движениях. Минутами он казался совершенным стариком.
– Пришел к тебе, батько, с поклоном: просить в посаженные отцы; хочу жениться.
– Добре задумал, пан полковник! Одного только жаль: как женишься, захочется дома сидеть, а не воевать.