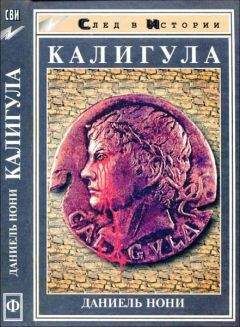— Все готово, император, мы ждем только тебя.
Я не ответил, даже не кивнул и быстро вышел наружу
сквозь шеренгу расступившихся командиров — я больше не в силах был оставаться здесь, сарай казался мне ловушкой.
На площадке около сарая, тоже загаженной и смрадной, уже все было приготовлено: перекладина, веревки, яма; несколько солдат стояли рядом, они вытянулись при моем появлении. Но я только мельком взглянул на них, я подставил лицо солнцу — неожиданно яркому и теплому для поздней осени. Когда я ехал сюда, а потом входил в сарай, было пасмурно, и казалось, что вот-вот пойдет мелкий противный дождь. Но солнце!.. Да еще такое! Я подумал, что это какой-то знак мне, но не мог понять какой. Соображая, я сделал короткий шаг вперед и вдруг, почувствовав под ногой что-то мягкое и скользкое, едва не упал. Солдаты подхватили меня с обеих сторон — я наступил на откуда-то взявшуюся тут, у конюшни, коровью лепешку, к тому же еще и свежую. Я зачерпнул носком сандалии теплую, зеленоватого цвета жижу и брезгливо пошевелил пальцами ноги. Солдаты, по-видимому, неправильно поняли мое движение и еще крепче ухватили меня за руки, а один из моих слуг, встав на колени передо мной, осторожно приподнял мою ногу.
Не понимаю, что такое со мной случилось — возможно, что виновато было неожиданно выглянувшее солнце, слепящее глаза, — но прикосновение чужих рук было мне значительно противнее, чем то, на что я наступил.
— Прочь! — крикнул я.
Слуга выронил мою ногу и едва не опрокинулся на спину. Солдаты же выпустили меня только тогда, когда я резким движением стряхнул их с себя.
Только в это мгновение подошли Туллий и командиры.
— Угодно будет императору переобуться? — осторожно произнес Туллий за моей спиной.
— Императору угодно смотреть, — зло процедил я сквозь зубы. — Начинайте!
И, несколько раз тряхнув ногой, я повернулся к дверям сарая и встал, скрестив руки на груди. Солнце теперь было сзади, и я ощущал его тепло спиной и затылком, но прежнего удовольствия уже не испытывал. Опять злость и раздражение явились во мне, хотелось сказать Туллию и им всем что-нибудь самое резкое, самое обидное, и я едва сдерживал себя, напрягши руки и прижав их к груди с такой силой, что трудно было дышать.
Наконец в дверях сарая показались двое солдат, они волокли Клавдия. Тело его безжизненно висело в их руках, а голова свободно болталась из стороны в сторону. Я снова подумал, что Клавдий мертв. Его уложили на перекладину, стали привязывать. То ли перекладина была узкой, то ли его тело было как-то особенно расслаблено, но оно норовило упасть то на одну сторону, то на другую, и двое солдат, ругаясь вполголоса, £ с трудом поддерживали его.
Уже руки и ноги Клавдия были привязаны, уже солдаты взялись за веревки, чтобы поднять перекладину, как мне в голову пришла новая мысль. Разумеется, безотчетная злоба и усталость сегодняшнего дня были v тому виной, но что поделаешь, если в какие-то моменты не можешь сдержаться. И не только не можешь, но и не хочешь, и, зная, что, очевидно, вредишь самому себе, все равно делаешь это.
— Стойте! — громко произнес я, и солдаты замерли, повернувшись в мою сторону.
В свою очередь я посмотрел на Туллия. В его лице была тревога. Мне показалось, что у него чуть подрагивают руки. Он проговорил, неуверенно улыбаясь: — Что-то не так, император?
— Все не так! — отрывисто сказал я и продолжил со все более и более нарастающим озлоблением: — Ты думаешь, я пришел сюда, чтобы посмотреть, как распинают какого-то Клавдия? Кто он такой? Скажи мне, кто он такой, чтобы император присутствовал при его казни? Он что, сенатор? Или хотя бы консул? Командир пятой когорты — да у меня тысяча таких когорт! Ты понимаешь, ты понимаешь меня?
Конечно же, Туллий не понимал. Теперь он смотрел на меня испуганно, так, будто с моим лицом в одно мгновение произошло что-то необычное и странное. Может быть, у меня, как и у него недавно, глаза сошлись к переносице и из двух образовался один? Может быть, теперь я сам сделался Полифемом и взирал на него своим единственным глазом, алча крови? Все могло быть, потому что гнев во мне перешел все возможные границы, и я сам удивляюсь, как я еще мог стоять недвижимо со скрещенными на груди руками, а не бросился на Туллия или на других или не покатился по земле со стонами и воплями. По-моему, Туллий тоже был удивлен и напуган этим. Наверное, и другие были точно так же напуганы, но я не смотрел на них, а видел перед глазами лишь лицо ненавистного Туллия — в эту минуту вся скверна мира выразилась для меня в его лице.
— Значит, не понимаешь! — негромко, медленно и угрожающе проговорил я, не отрывая взгляда от лица Туллия. — Тогда я тебе объясню, для чего я здесь, чтобы ты хорошенько все понял и чтобы все вы, — я выбросил руку в сторону стоявших плотной группой командиров, — чтобы все вы поняли. Поняли, что это ваш товарищ, что он не более виноват, чем все вы, и, главное, чтобы знали, что каждый из вас и все вы вместе можете оказаться на его месте!
Я сделал паузу. Я хотел увидеть, какое впечатление произвели на них такие мои слова. Если бы они бросились на меня в следующее мгновение, я бы, наверное, был только рад этому.
Но никакого видимого впечатления мои слова на них не произвели. Группа командиров, стоявшая чуть поодаль, так же продолжала стоять (выражение на их лицах с моего места трудно было определить), Туллий тоже не упал на колени, не бросился бежать, только правое веко снова стало подергиваться и на лбу выступила испарина. Впрочем, возможно, что и от солнца, которое припекало все сильнее.
Гнев мой несколько ослабел, но зато решимости стало больше. И уже довольно спокойно, но с абсолютной уверенностью, что этому нельзя прекословить, я распорядился:
— Пусть солдаты отойдут, а вы (я ткнул пальцем в сторону группы командиров) возьмитесь за веревки. Все, ни один не останется в стороне. Надеюсь, что мне не придется повторять приказание дважды!
Но мне пришлось, потому что никто не сдвинулся с места: солдаты все так же стояли у перекладины, держа в руках веревки, командиры — все той же плотной группой. Вокруг наступила такая тишина, что казалось, весь Рим прислушивается к ней. Весь Рим, все провинции, все сопредельные государства. И даже боги, если они все-таки существуют, в полном молчании, настороженно смотрели с небес. Все ждали, чем же закончится противостояние, и хотели понять, есть ли еще у римского императора власть.
И когда тишина — я ясно почувствовал это — достигла критической точки и любой, самый незначительный и случайный шорох мог взорвать ее, я произнес:
— Римский император, Гай Германик, приказывает вам. Исполняйте!
И, сказав это и достаточно небрежно посмотрев на Туллия, я повел рукой в сторону перекладины. Он помедлил всего несколько мгновений и, ничего не ответив мне, пошел в сторону командиров. Он был значительно выше меня ростом и шел, так низко опустив голову, что, глядя со спины, казалось, будто головы нет вовсе. И я произнес про себя: «Гвардия обезглавлена», хотя и сам не понял, что имею в виду.
Я не слышал, что Туллий говорил командирам и что они, возможно, отвечали ему, но переговоры оказались короткими. Медленно, очень медленно, будто все это происходило во сне, все они, так же плотно держась друг возле друга, двинулись в сторону перекладины. Туллий шел позади всех, так же низко свесив голову на грудь. Сейчас он не казался обезглавленным, но напомнил мне Клавдия в тот первый момент, когда я увидел его, войдя в сарай: так же низко голова свисала на грудь.
Когда подошли командиры, солдаты аккуратно положили веревки на землю и так же медленно отошли в сторону.
Все последующее в самом деле происходило, как во сне, и я смотрел завороженно. Одни взялись за веревки, другие за основание перекладины, и она пошла вверх. Вернее, поплыла, и словно бы сама по себе. Теперь я смотрел только на тело Клавдия, оно уже не казалось мне мертвым. Более того, в нем даже была какая-то красота. Оно поднималось все выше и выше, и я, поднимая вслед за ним взгляд, увидел облака — особенно белые и особенно пышные. И тело поднималось к облакам медленно, но неуклонно. И, лишь достигнув их, оно остановилось. Нет, не остановилось, а стало парить, недвижимо зависая где-то в самой высокой точке.
И, не отдавая себе отчета, что я делаю и зачем, я медленно, не отрывая взгляда от парящего в небесах тела, пошел к перекладине. По мере приближения голова моя закидывалась все выше и выше, так что заломило в затылке и что-то хрустнуло в основании шеи. Когда я услышал и почувствовал хруст, я остановился и только тогда опустил взгляд.
Я увидел, что все стоящие вокруг командиры смотрят на парящее над ними тело, запрокинув головы. Они были так сосредоточены, что не заметили, как я подошел. И Туллий, оказавшийся рядом со мной, ничего не замечал вокруг и смотрел вверх, раскрыв рот. Я никогда бы не подумал, что его лицо может выражать такой мистический восторг, но сейчас оно его выражало. Оно даже показалось мне красивым, я не ощутил ни гнева, ни раздражения, но, напротив, мне хотелось протянуть руку и положить ее на плечо Туллия по-братски, с любовью.