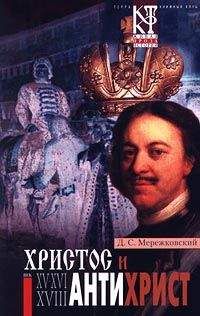Царевич ходил быстрыми шагами взад и вперед по комнате. Угловатая черная тень его мелькала по белым стенам, то сокращалась, то вытягивалась, упираясь в потолок, переламывалась.
Евфросинья, сидя с ногами в кресле и кутаясь в шубку, следила за ним глазами, молча. Лицо ее казалось равнодушным. Только в углу рта что-то дрожало едва уловимою дрожью, да пальцы однообразным движением то расплетали, то скручивали оторванный от застежки на шубе золотой шнурок.
Все было так же, как полтора месяца назад, в тот день, когда получил он радостные вести.
Царевич, наконец, остановился перед ней и произнес глухо:
– Делать нечего, маменька! Собирайся-ка в путь. Завтра к папе в Рим поедем. Кардинал мне тутошний сказывал, папа-де примет под свою протекцию…
Евфросинья пожала плечами.
– Пустое, царевич! Когда и цесарь держать не хочет девку зазорную, так где уж папе. Ему, чай, нельзя, и по чину духовному. И войска нет, чтоб защищать, коли батюшка тебя с оружием будет требовать.
– Как же быть, как же быть, Афросьюшка?.. – всплеснул он руками в отчаяньи. – Указ получен от цесаря, чтоб отлучить тебя немедленно. До утра едва ждать согласились. Того гляди, силой отнимут. Бежать, бежать надо скорее!..
– Куда бежать-то? Везде поймают. Все равно один конец – поезжай к отцу.
– И ты, и ты, Афрося! Напели тебе, видно. Толстой да Румянцев, а ты и уши развесила.
– Петр Андреич добра тебе хочет.
– Добра!.. Что ты смыслишь? Молчи уж, баба – волос долог, ум короток! Аль думаешь, не запытают и тебя? Не мысли того. И на брюхо не посмотрят: у нас-де то не диво, что девки на дыбах раживали…
– Да ведь батюшка милость обещал.
– Знаю, знаю батюшкины милости. Вот они мне где! – показал он себе на затылок. – Папа не примет – так во Францию, в Англию, к Шведу, к Турку, к черту на рога, только не к батюшке! Не смей ты мне и говорить об этом никогда, Евфросинья, слышишь, не смей!..
– Воля твоя, царевич. А только я с тобой к папе не поеду, – произнесла она тихо.
– Как не поедешь? Это ты что еще вздумала?
– Не поеду, – повторила она все так же спокойно, глядя ему в глаза пристально. – Я уж и Петру Андреичу сказывала: не поеду-де с царевичем никуды, кроме батюшки; пусть едет один, куда знает, а я не поеду.
– Что ты, что ты, Афросьюшка? – заговорил он, бледнея, вдруг изменившимся голосом. – Христос с тобою, маменька! Да разве… о. Господи!… разве я могу без тебя?..
– Как знаешь, царевич. А только я не поеду. И не проси.
Она оторвала от петли и бросила шнурок на пол.
– Одурела ты, девка, что ль? – крикнул он, сжимая кулаки, с внезапною злобою. – Возьму, так поедешь! Много ты на себя воли берешь! Аль забыла, кем была?
– Кем была, тем и осталась: его царского величества, государя моего, Петра Алексеича раба верная. Куда царь велит, туда и поеду. Из воли его не выйду. С тобой против отца не пойду.
– Вот ты как, вот ты как заговорила!.. С Толстым да с Румянцевым снюхалась, со злодеями моими, с убийцами!.. За все, за все добро мое, за всю любовь!.. Змея подколодная! Хамка, отродие хамово…
– Вольно тебе, царевич, лаяться! Да что же толку? Как сказала, так и сделаю.
Ему стало страшно. Даже злоба прошла. Он весь ослабел, изнемог, опустился в кресло рядом с нею, взял ее за руку и старался заглянуть ей в глаза:
– Афросьюшка, маменька, друг мой сердешненький, что же, что же это такое? Господи! Время ли ссориться? Зачем так говоришь? Знаю, что того не сделаешь – одного в такой беде не покинешь – не меня, так Селебеного, чай, пожалеешь?..
Она не отвечала, не смотрела, не двигалась – точно мертвая.
– Аль не любишь? – продолжал он с безумно молящею ласкою, с жалобной хитростью любящих. – Ну что ж? Уходи, коли так. Бог с тобой. Держать силой не буду. Только скажи, что не любишь?..
Она вдруг встала и посмотрела, усмехаясь так, что сердце у него замерло от ужаса.
– А ты думал, люблю? Когда над глупой девкой ругался, насильничал, ножом грозил, – тогда б и спрашивал, люблю, аль нет!..
– Афрося, Афрося, что ты? Аль слову моему не веришь? Ведь женюсь на тебе, венцом тот грех покрою. Да и теперь ты мне все равно что жена!..
– Челом бью, государь, на милости! Еще бы не милость! На холопке царевич изволит жениться! А ведь вот, поди ж ты, дура какая – этакой чести не рада! Терпела, терпела – мочи моей больше нет! Что в петлю, аль в прорубь, то за тебя постылого! Лучше б ты и впрямь убил меня тогда, зарезал! Царицей-де будешь – вишь, чем вздумал манить. Да, может, мне девичий-то стыд и воля дороже царства твоего? Насмотрелась я на ваши роды царские – срамники вы, паскудники! У вас во дворе, что в волчьей норе: друг за дружкой так и смотрите, кто кому горло перервет. Батюшка – зверь большой, а ты – малый: зверь зверушку и съест. Куда тебе с ним спорить? Хорошо государь сделал, что у тебя наследство отнял. Где этакому царствовать? В дьячки ступай грехи замаливать, святоша! Жену уморил, детей бросил, с девкой приблудной связался, отстать не может! Ослаб, совсем ослаб, измотался, испаскудился! Вот и сейчас баба ругает в глаза, а ты молчишь, пикнуть не смеешь. У, бесстыдник! Избей я тебя, как собаку, а потом помани только, свистни – опять за мной побежишь, язык высуня, что кобель за сукою! А туда же, любви захотел! Да разве этаких-то любят?..
Он смотрел на нее и не узнавал. В сиянии огненно-рыжих волос, бледное, точно нестерпимым блеском озаренное, лицо ее было страшно, но так прекрасно, как еще никогда. «Ведьма!» – подумал он, и вдруг ему почудилось, что от нее – вся эта буря за стенами, и что дикие вопли урагана повторяют дикие слова:
– Погоди, ужо узнаешь, как тебя люблю! За все, за все заплачу! Сама на плаху пойду, а тебя не покрою! Все расскажу батюшке – как ты оружия просил у цесаря, чтобы войной идти на царя, возмущению в войске радовался, к бунтовщикам пристать хотел, отцу смерти желал, злодей! Все, все донесу, не отвертишься! Запытает тебя царь, плетьми засечет, а я стану смотреть, да спрашивать: что, мол, свет Алешенька, друг мой сердешненький, будешь помнить, как Афрося любила?.. А щенка твоего, Селебеного, как родится – я своими руками…
Он закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Ему казалось, что рушится все, и сам он проваливается. Так ясно, как еще никогда, понял вдруг, что нет спасения – и как бы ни боролся, что бы ни делал – все равно погиб.
Когда царевич открыл глаза, Евфросиньи уже не было в комнате. Но виден был свет сквозь щель неплотно притворенной двери в спальню. Он понял, что она там, подошел и заглянул.
Она торопливо укладывалась, связывала вещи в узел, как будто собиралась уходить от него тотчас. Узел был маленький: немного белья, два-три простых платья, которые она сама себе сшила, да слишком ему памятная старенькая девичья шкатулка, со сломанным замком и облезлою птицей, клюющей кисть винограда, на крышке – та самая, в которой, еще дворовою девкою в доме Вяземских, она копила приданое. Дорогие платья и другие вещи, подаренные им, тщательно откладывала, должно быть, не хотела брать его подарков. Это оскорбило его больше, чем все ее злые слова.
Кончив укладку, присела к ночному столику, очинила перо и принялась писать медленно, с трудом, выводя, точно рисуя, букву за буквою. Он подошел к ней сзади на цыпочках, нагнулся, заглянул ей через плечо и прочитал первые строки:
«Александр Иванович.
Понеже царевич хочит ехать к папе а я отгаваривала штоп не ездил токмо не слушаит зело сердитуит то исволь ваша милость прислати за мной наискаряи а лучшеп сам приехал не увесбы мне силой а чай без меня никуды не поедит».
Половица скрипнула. Евфросинья быстро обернулась, вскрикнула и вскочила. Они стояли, молча, не двигаясь, лицом к лицу, и смотрели друг другу в глаза долгим взглядом, точно так же, как тогда, когда он бросился на нее, грозя ножом.
– Так ты и впрямь к нему? – прошептал он хриплым шепотом.
Чуть-чуть побледневшие губы ее искривились тихою усмешкою.
– Хочу – к нему, хочу – к другому. Тебя не спрошусь.
Лицо его исказилось судорогою. Одной рукой схватил он ее за горло, другою за волосы, повалил и начал бить, таскать, топтать ногами.
– Тварь! Тварь! Тварь!
Тонкое лезвие кортика-грифа, который носила она, одеваясь пажем, и которым только что, вместо ножа, отрезала от большого листа бумаги четвертушку для письма, – сверкало на столе. Царевич схватил его, замахнулся. Он испытывал безумный восторг, как тогда, когда овладевал ею силою; вдруг понял, что она его всегда обманывала, не принадлежала ему ни разу, даже в самых страстных ласках, и только теперь, убив ее, овладеет он ею до конца, утолит свое неимоверное желание.
Она не кричала, не звала на помощь и боролась молча, ловкая, гибкая, как кошка. Во время борьбы он толкнул стол, на котором стояла свеча. Стол опрокинулся. Свеча упала и потухла. Наступил мрак. В глазах его, быстро, точно колеса, завертелись огненные круги. Голоса урагана завыли где-то совсем близко от него, как будто над самым ухом, и разразились неистовым хохотом.