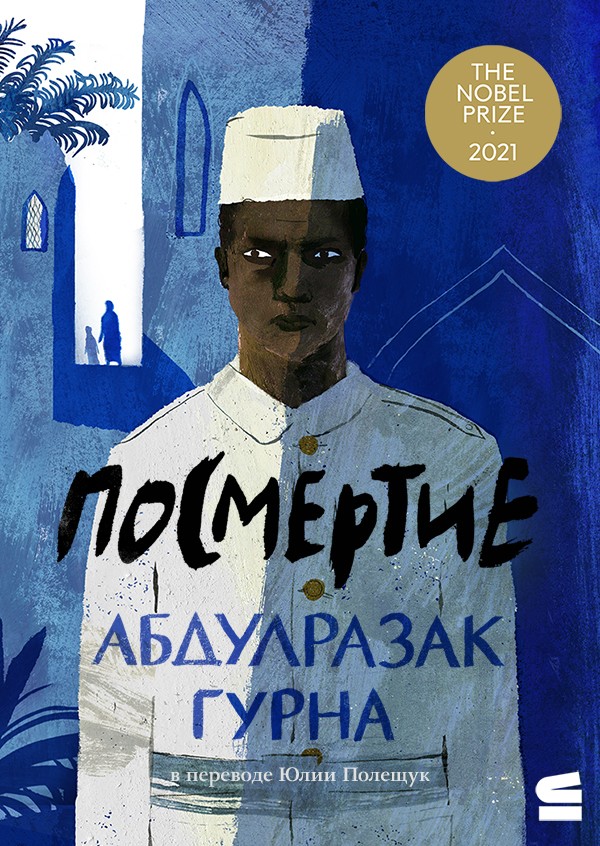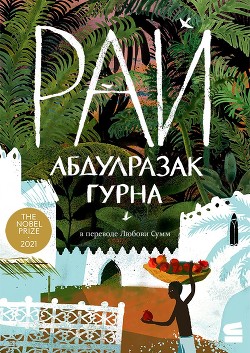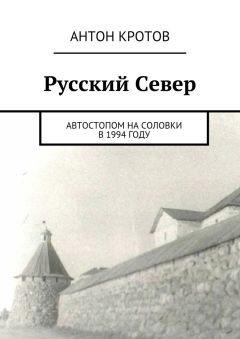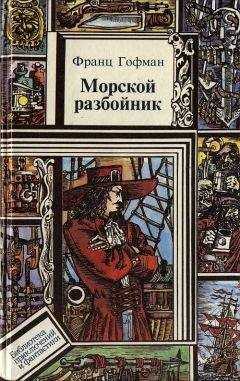усмехаясь. — По утрам он звал ее, когда садился завтракать, она приносила ему хлеб и садилась рядом, он скармливал ей кусочек за кусочком. Как птичке. Просяная лепешка и растопленное гхи каждое утро, а она сидела подле него, болтала, широко разевала рот в ожидании следующего кусочка. Она ходила по пятам за моей мамой, пока та делала свою работу, шла со мной, если я отправлялся куда-то. Однажды отец сказал, мы должны дать ей свое имя, и она станет одной из нас. Мы все сотворены Богом из одного сгустка крови, сказал он. Она лучше умела разговаривать с местными, чем мы, — она из суахили, как и ты, хотя ее речь немного отличалась от твоей.
А потом явился сеид. Вот эта часть истории самая простая. Когда ей исполнилось семь, мой бедный глупый Ба, помилуй его Бог, предложил ее сеиду в уплату части долга. И меня — как рехани до той поры, пока она не достигнет брачного возраста, если только мой Ба не выкупит меня раньше. Но он умер, моя Ма и братья вернулись в Аравию и оставили меня здесь с нашим стыдом. Когда этот дьявол Мохаммед Абдалла пришел за нами, он велел ей раздеться и трогал ее своими грязными руками.
Халил тихо заплакал, слезы бесшумно струились по его лицу.
— После свадьбы сеид сказал, я могу остаться, если хочу, — продолжал Халил, — вот я и остался служить этой бедной девочке, которую мой Ба продал в рабство, помилуй Бог его душу.
— Но ни она, ни ты не обязаны здесь оставаться. Она может уйти, если хочет. Кто ей помешает? — вскричал Юсуф.
— Братец, какой ты стал храбрый! — Халил засмеялся сквозь слезы. — Можем удрать все вместе и жить на горе. Это ей решать. Если она уйдет против воли сеида, я снова стану рехани или обязан буду выплатить долг. Такое было заключено соглашение, и этого требует честь. Вот почему она не уйдет, а пока она остается здесь, остаюсь и я.
— Как ты можешь рассуждать о чести?!
— О чем же еще мне говорить? — возразил Халил. — Мой бедный Ба, помилуй его Бог, и сеид отобрали у меня все остальное. Разве не они превратили меня в бесполезного труса, которого ты видишь перед собой? Возможно, я от природы склонен к этому или же дело в нашем образе жизни… в нашем обычае. Но она — ей они разбили сердце. За что же нам теперь держаться? Если не хочешь, чтобы я называл это честью, придумай другое имя, какое пожелаешь.
— Мне дела нет до твоей чести, — сердито ответил Юсуф. — Всего лишь пышное слово, за которым ты прячешься. Я заберу ее отсюда.
Халил улегся на свой матрас и потянулся.
— В ту ночь, когда сеид женился на ней, я был счастлив, — сказал он. — Хоть это и не было вовсе похоже на ту индийскую свадьбу, что мы видели много лет назад. Без песен, без драгоценных украшений… даже гостей не было. Зато я думал, теперь она уже не будет больше похожа на птичку в клетке, напевающую обрывки мелодий. Ты слышал иногда, как она пела по ночам? Брак смоет ее стыд, вот что я думал. Она может уйти, если захочет! А ты — кто мешал тебе уйти давным-давно? Куда же ты отправишься вместе с ней? Сеиду не придется и пальцем пошевельнуть, чтобы наказать тебя. Ты будешь проклят в глазах всех, и поделом. Преступник. Если останешься в городе — сама твоя жизнь будет в опасности. Она тебе что-то сказала? То есть — она дала какой-то зарок?
Юсуф не ответил, но чувствовал, как стихает его гнев и подступает облегчение от того, что его безоглядной решимости брошен вызов. Быть может, он не в силах ничего сделать. И хотя воспоминание об Амине, стоящей в темноте у двери сада, все еще согревало ему руки, он уже ощущал, как это воспоминание понемногу остывает, становится чем-то более благостным, драгоценным сокровищем, которое он спрячет и будет доставать в спокойную минуту.
Как смел он рассуждать о том, чтобы уехать вместе с ней? Она рассмеялась бы ему в лицо, а потом позвала бы кого-то на помощь. А потом в ее голосе зазвучала горечь: она заговорила о дяде Азизе, сказала, что живет в аду. Ее ладонь коснулась его щеки, да, ее ладонь на его щеке. И она засмеялась, когда он спросил, готова ли она покинуть дядю Азиза…
— Нет, она ничего не сказала. Она считает меня мечтателем, — ответил Юсуф после долгого молчания. Он опасался, что Халил задаст еще много вопросов, но тот лишь вздохнул и улегся спать.
Проснулся Юсуф с ощущением усталости и вины. Всю ночь, задремывая и выныривая из сна, он спорил с самим собой: следует ли оставить все как есть или же поговорить с Аминой откровенно, добиться какого-то решения. Он подумал, что она едва ли отвернется от него с презрением. Ведь она все это время следила за ним. Их жизни шли друг подле друга. И было что-то особенное в его тяге к ней: пока у него еще не появились слова, которыми он мог бы описать ей свое желание, однако он сознавал, что оно не было легкомысленным и возникло не по его произволу. Но все это пустяки по сравнению с тем, что произойдет, если она согласится. И вопреки всему он преисполнился решимости поговорить с ней. Вот что он скажет: если это ад, уходи отсюда. И позволь мне уйти с тобой. Они воспитали нас в робости и послушании, приучили уважать их, даже когда они дурно обходятся с нами. Уходи и позволь мне уйти с тобой. Мы оба застряли в пустоте, в глуши. Что может быть хуже? Там, куда мы отправимся, не будет огражденного сада с крепкими кипарисами, беспокойными кустами, плодовыми деревьями и невероятно яркими цветами. Не будет горьковатого запаха апельсиновой камеди днем и окутывающего со всех сторон густого аромата жасмина по ночам, не будет аромата зернышек граната или сладкого дыхания трав по краям сада. Не будет музыки воды, журчащей в пруду и каналах, и тихого прибежища под сенью финиковых пальм в жестокую жару середины дня. Не будет музыки для услаждения чувств. Это будет изгнание, но ведь не может оно быть хуже, чем это, здесь и сейчас? И она улыбнется и коснется его щеки, и его кожа запылает под ее ладонью. Ты мечтатель, скажет она и пообещает: они создадут собственный сад, более совершенный, чем этот.
Он не станет печалиться из-за своих родителей,