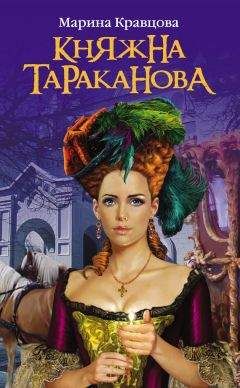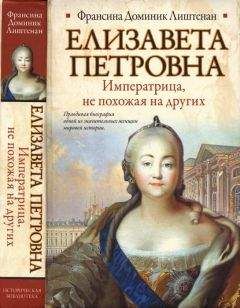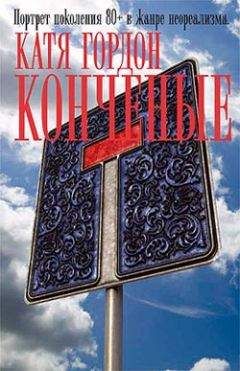Августа стояла у одного из этих окон под низкими сводами маленькой кельи, по обстановке напоминающей скорее скромную гостиную, чем обиталище монаха. Она переступила порог этой кельи несколько минут назад, и смятение сразу же заглушило, почти уничтожило все благие помыслы. «Я ведь никогда уже не выйду отсюда!» Телесная усталость от путешествия в Москву из столицы, которое она проделала в закрытой карете в сопровождении стражников, словно перетекла в душу, мешаясь с разочарованием и горечью. Августа почти возроптала на судьбу.
Подойдя к окну, она отогнула край плотной занавески. Пустынный двор. К окнам ее подойти никто не посмеет, а у крыльца, она знала, стоят часовые. «Не монахиня, арестантка. Впрочем, не все ли равно? Наверное, на месте императрицы и я бы так же распорядилась… Вот оно каким оказалось, мое возвращение».
Скрипнуло за спиной, Августа вздрогнула от неожиданности. Обернулась. Мать игуменья вплывала в низкую дверь. Августа неловко поклонилась. Матушка настоятельница мелкими шажками приблизилась к ней, припала к ее рукам.
– Что вы, матушка?
– Ваше Высочество… Прости меня, грешную, царевна!
– Матушка, да я… зачем? Я постриг принять желаю! Выделять меня среди всех других сестер не следует. Благословите меня.
Игуменья благословила.
– А вот сего, чтобы не выделять, никак нельзя! Ты, царевна, прочим сестрам не чета. Не обессудь! Распоряжение высочайшее – жить тебе отдельно от прочих. Келейницу тебе пришлю, Стефаниду, она девица добрая, скромная. Круглая сиротка, из дворянок. Прислуживать тебе будет.
Августа помолчала, стараясь привести в порядок обрывки мыслей и чувств.
– Матушка, а когда… когда же постриг?
– А завтра. Для чего же медлить-то?
«Действительно, для чего медлить?»
Игуменья ушла, но появилась келейница, действительно, очень скромная и застенчивая, молчаливая – как и положено монахине. Она с робостью и невольным восхищением взирала на Августу из-под длинных полуопущенных ресниц. После знакомства принцесса отослала ее, не сделав никаких распоряжений.
Осталась одна. «Я теперь все время буду одна…» Зазвонил монастырский колокол. Августа вновь подошла к окну, глянула в щель занавески. Сестры чинно шли на вечернее богослужение.
Августа в смятении опустилась на диван, стиснула пальцы. Звон лился и лился, через слух проникая в самую глубину, в недра ее существа, и не успокоение рождал в душе, но постепенно наполнял ее чем-то еще более напряженным, огромным, великим, перед чем меркла, ничтожной и ненужной казалась вся прошедшая жизнь. Уже ничего не имело значения перед тем, что нес сейчас ей негромкий звон монастырского колокола. В этом была какая-то тайна, и не уныние уже, но трепет и сомнение в своих силах вызывала у Августы мысль, что очень скоро она будет погружена в эту тайну. «Моих сил не хватит, – не подумалось, но пришло откуда-то извне, – но ведь Бог…»
Когда поздно вечером Стефанида произнесла перед закрытой дверью в келью Августы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас…», то в ответ ничего не услышала. Робко толкнула дверь. Обнаружила принцессу откинувшейся на спинку дивана и крепко спящей. Постояла рядом, повздыхала. Будить не решалась. Но Августа, вдруг сильно вздрогнув, проснулась сама, и с удивлением глянула на келейницу. Тут взгляд ее затуманился, она вспомнила все…
Стефанида поклонилась.
– Матушка игуменья послала за вами.
Августа пристально смотрела на то, что держала в руках келейница. Это было иноческое одеяние.
…Все совершилось как-то суетливо, поспешно, так, что Августа не смогла ни осознать, не прочувствовать до конца важность таинственного удивительного действа, с ней совершенного. Теперь она – инокиня Досифея… Княжны Таракановой больше нет. Вот и все… Нет царской дочери, дочери Разумовского. Досифея… Христова невеста.
Перед глазами у Августы поплыли темные стены церкви, где свершился постриг. Она не слышала игуменьи, к ней обращавшейся, подспудно она отвергала свое новое, непривычное имя. Наконец, взяв себя в руки, поняла, что надо идти за Стефанидой, которая освещает ей дорогу, идти назад, в келью. Обратное путешествие по каким-то непонятным переходам… «Пленница, – билось в груди у Августы-Досифеи, – пленница…» – «Нет, – отвечало трепещущее пламя свечи в руках у Стефаниды, причудливо озаряющее черные стены, – монахиня…»
* * *
Утром инокиня Досифея вызвала келейницу.
– Сестра, научи меня утреннему монашескому правилу.
Стефанида достала из шкафчика огромную книгу, обтянутую кожей. Желтые страницы, испещренные рукописным полууставом, крошились на уголках. Досифея бережно взяла молитвослов из рук келейницы. «Эти слова, сложенные в молитвы… Теперь это единственная моя сила, мое спасение, моя жизнь… Господи, помоги!» Ей захотелось в голос застонать…
Через несколько часов Стефанида, принесшая обед, нашла новопостриженную монахиню углубленной в молитвослов. Досифея хмурилась, переносицу прорезала складочка напряжения. Глянув на блюда, которые келейница молча выставляла на стол, инокиня удивленно покачала головой.
– У вас и на общей трапезе то же самое подают?
Яства были хоть и постные, но изысканные – явно не для строгого монашеского стола. В ответ на ее вопрос Стефанида покачала головой:
– Нет, матушка, для вас мать настоятельница повелела отдельно готовить.
– Тогда передай, Стефанида, голубушка, матери настоятельнице, что ежели возможно, то я хочу питаться так же, как и остальные сестры.
– Я передам, – Стефанида робко улыбнулась. – А пока уж, матушка, покушайте.
На следующее утро в тревожный сон Досифеи влился хрустальной чистотой колокольный звон. Инокиня проснулась, позвала Стефаниду, жившую теперь в маленькой келье, смежной с ее комнатами.
– Что это, сестра? Служба началась? А почему мы в церковь не идем, сегодня же воскресенье?
– Матушка, вам нельзя, – тихо отозвалась келейница.
– Мне? Монахине? Монахине нельзя посещать церковные службы? А, понимаю, – Досифея грустно усмехнулась. – Нельзя, чтобы меня видели… А, Стефанида?
– Я матушке игуменье скажу…
Игуменья сама появилась после службы в келье Досифеи.
– Мать, не кручинься, как же тебя – да святой Божественной литургии лишить. Сейчас в надвратной церкви свечи зажгут, лампады затеплят, приготовят все к обедне, и пойдешь, с Богом, помолишься…
– Меня ради одной литургию служить? – изумилась Досифея.
– А то как же? – игуменья пригнулась к самому ее уху. – Ты, чай, монахиня-то непростая…
Прошли дни, недели, и Досифея почувствовала, что совершенно изнывает, что сердце ее рвется, душа томится, что она не понимает новой своей жизни, не хочет ее. Вдруг стала сильно скучать по музыке, к которой так привыкла. «А ведь светлейший князь предлагал мне свою помощь! Почему отказалась?» Светлейший князь припоминался ей всегда некстати, и всегда воспоминания о нем обостряли до предела ее и без того болезненное состояние. В эти минуты Досифея чувствовала, что задыхается от рыданий, которые ни за что не хотела пускать наружу. «Господи, для чего же все это?!»
Однажды игуменья передала ей крупную сумму денег, на которые Досифея уставилась, словно на ядовитых насекомых, со страхом и отвращением.
– Что это, матушка? Зачем же?
– Тебе, мать Досифея, а от кого, знать не надобно.
– Да что же мне делать-то с ними, матушка игуменья? – растерялась Досифея.
– Так, может, нужно чего-то, Стефаниду пошлем…
– Нет-нет! – инокиня Досифея решительно отстранила от себя странный подарок. – Возьмите… на монастырь, нищим раздайте. Мне не нужно.
– Но, мать… – игуменья развела руками.
– Я – монахиня, я обет нестяжания дала, – тихо сказала Августа-Досифея. – Возьмите, матушка. Я так хочу.
Но подобный случай повторялся еще не раз и неизменно заканчивался одним и тем же: Досифея жертвовала деньги на храмы и на нищих. А у самой в висках колотилось: «Государыня? Или… его светлость?»
Утешением были лишь церковные службы. Тогда Досифея жила совсем в другом мире… Стефанида провожала ее по крытым переходам в надвратный храм, где для нее одной священник служил Божественную литургию. Стоя в полумраке пустого храма, неотрывно глядя на алтарь, инокиня как-то по-особому воспринимала весь ход богослужения. Душа наполнялась словами молитв и песнопений, свободно разливающихся в пространстве храма, и тогда Досифея обретала и хотя бы на несколько часов удерживала непередаваемое состояние: все, что здесь – настоящее. Все осмысливалось, обретало истинную цену, в душе причудливо уживались и временное успокоение, и томление, жажда еще большей душевной наполненности, ожидание чего-то самого большого, самого главного, перед чем весь земной привычный мир – ничто. А потом она причащалась Святых Христовых Таин, с трепетом и осознанием: вот оно – главное…
Досифее грустно было покидать храм по окончании богослужений. Она знала, что, как ни старайся, ей не удастся надолго удержать приобретенное, и вскоре ее вновь начнет терзать уныние…