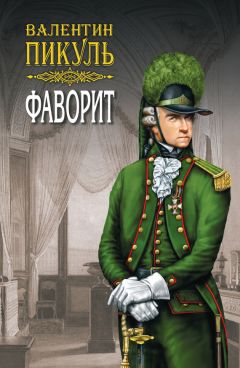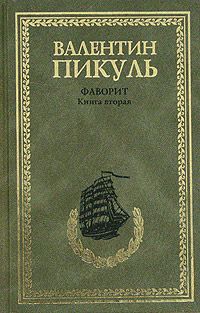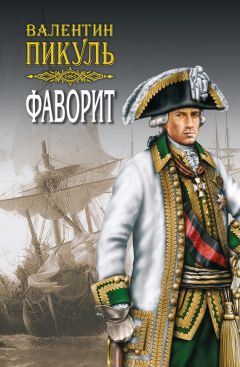Показался Карасубазар – зловонное скопище саклей и лачуг, в которых селились многодетные семьи евреев, очень любопытных до всего на свете, и апатичные ко всему татары. В узких улицах застревали пушечные лафеты, всадники скребли стременами стены ветхих домов. Пахло отбросами, лошадиной мочой, крепким кофе и… розами! На крышах лежали рыжие, немигающие кошки. Здесь Потемкина ожидали его смоленские сородичи – офицеры Каховский и Тухачевский, они сказали, что для отдыха приготовлен сераль мурзы.
– Клопов и блох там… у-у-у, – предупредили они.
– Всех передавим! Сыщите мне архитектора Старова…
Где-то в кустах журчали ручьи. Пустые комнаты сераля были расписаны узорами, простенки в них зеркальные, низкие лежанки покрыты коврами, в углу пылились высокие кувшины. Потемкин, любознательный, открывал в доме дверь за дверью, будто надеялся увидеть сладострастных гурий, трепетных в ожидании его светлости. Таковых не обнаружил, только мимо его ног с радостным мяуканьем прошмыгнула забытая кошка. К ужину пришел из армейского обоза запыленный Старов, сообща они поливали из кувшина на руки воду, умывшись, прошли к столу.
– Археология не суть души моей, – признался Потемкин. – Какие тут под кучами навоза Помпеи не раскопаны, того не знаю. Но зря надеялся увидеть колонны и пропилеи от мира, нами забытого. Здесь, как погляжу, ничего нет, кроме дикости и голодранства. Все самим надо делать! А ты, Иван Егорыч, собирай, что осталось: статуи какие попадутся, амфоры для вина или масла, даже обломки – Эрмитажу все сгодится… С сего дня Крыма не стало – будет здесь Таврида блистательная!
С поклоном явились к нему знатные мурзы и беи.
– А я вас звал? Ну, коли уж пришли, так беритесь за дело. Вот окна расколупайте, чтобы дышать было легше. Постель мне стелите из трав мятных и шалфейных. Устал я! Спать буду…
Василий Каховский и Николай Тухачевский, получив от него приказ, искали в округе место открытое, где бы можно собрать татар для присяги. К северу от Карасубазара высилась гора Ак‑хая, с кручи которой татары кидали в пропасть русских рабов (тех, кто состарился и обессилел, или таких, за которых выкупа не давали их московские сородичи). Потемкин широкими шагами – великан! – поднялся на самый гребень этой скалы, перекрестясь, с робостью заглянул в бездну, под ним зиявшую.
– Может, и мои предки кости свои тут оставили?..
От гребня горы Ак-хая далеко стекала пологая равнина.
– Вот здесь и ставить шатры мои, – распорядился он. – Солдатам быть с ружьями. Офицерам при шпагах и орденах, шарфы надеть! Пусть все мурзы, улемы и беи сюда сползаются. У скалы сей Тарпейской, где они, поганцы, наших предков казнили, теперь склонят рыла свои немытые перед воинством нашим…
10 июня «Тарпейская» долина ожила от множества людей и войск, ветер трепал шатры русской ставки, теребил черные войлоки кибиток татарских. Григорий Александрович, опираясь на трость, остался стоять на вершине скалы, видимый всем издалека, как лучезарный языческий идол.
Светлейший ел клюкву. Ел и не морщился!
А под ним, величественным, склонялись кобыльи хвосты бунчуков ханских, остроконечные шапки мурз касались земли, над холмами протекали теплые ливни, где-то над морем бушевали летние грозы. На ярком малахите гор виднелись черные кагалы караимов, поодаль гарцевали нарядные всадники.
– Чего они там скачут? Присягнули уж?
– Это беи знатные. Не хотят.
– И не надо! Плевать я хотел на их присягу…
Потемкин глубже вдохнул ароматы диких цветов, вобрал в себя одиноким глазом все краски сразу и раскинул руки так широко, словно желая обнять этот мир, еще вчера чуждый ему, но уже становившийся нужным и родственным для матери-России:
– МЫ ПРИШЛИ, – возвестил он. – ТАВРИДА НАША… МОЯ!
Вечером его навестил вице-адмирал Клокачев, исправно доложив, что в Ахтиаре стоянка удобная: грунт – мягкий ил, якоря такой грунт держат хорошо:
– А лучшей бухты, нежели Ахтиарская, во всем свете, кажется, не сыскать. Погани там никакой, одни дельфины в лиманах играют, а червя, доски источающего, не заметил.
Потемкин привлек к себе Клокачева, обнимая:
– Ты, Федот Алексеич, об Ахтиаре татарском позабудь! Отныне и во веки веков быть там теперь Севастополю.
– Опять не по-русски? Да по-каковски же это?
– Переводится просто: ГОРОД СЛАВЫ. От греческого «Севастос», что и означает «достойный всеобщего поклонения»…
Кораблям было велено – плыть в Севастополь!
* * *
Ламбро Ликургович Каччиони затеплил последнюю свечу. Поверх растрепанной Библии лежала «Илиада» Гомера, от руки им переписанная. На корабельном сундуке, заменявшем постель, сладко почивала жена-турчанка с длинными черными косами, три раза обернутыми вокруг красивой головы. Зима в Мариуполе была голодной, снежной. Пирату, уроженцу греческой Ливадии, не привыкалось в этих неуютных краях, где все открыто, где ветер сыпучим снегом заметал плоские ногайские шляхи.
Кто-то стучался в двери. За широкий арнаутский пояс Ламбро Каччиони засунул два заряженных пистолета:
– Если ты честный человек, открывай дверь и входи.
Прибыл курьер от князя Потемкина.
– Читай сам, – сказал корсар. – Я по-русски не умею.
Курьер прочел: с утра поднять греческую колонию Мариуполя, всем мужам с женами и оружием следовать морем до Балаклавы, где Ламбро Каччиони станет командиром Греческого легиона; лично ему, по чинам и заслугам, императрицею отводится 240 десятин земли, офицерам – по 60, матросам же – по 20 десятин. Легиону греков указано нести охрану берегов Таврических от лазутчиков султана, особо оберегая подступы к Севастополю…
Греческие фелюги вошли в узкую, как коридор, Балаклавскую бухту, и все увидели кипение воды за бортом – от небывалого обилия рыбы. Каччиони встал и произнес речь:
– Эллины! Не об этой ли самой гавани, населенной великанами-листригонами, пел Гомер в десятой песне своей «Одиссеи»: «В славную пристань вошли мы, ее образуют утесы, круто с обеих сторон вход и исход из нее ограждая…»
С кабинет-курьером Потемкин переслал ко двору рыбку-султанку, выловленную балаклавскими греками. Воспетая еще Марциалом, султанка была отрадою падишахов – в древности ее ценили на вес золота даже пресыщенные патриции Рима.
– Патриции-то, – говорил Безбородко, – не только вкушали от рыбки, но еще любовались, бывало, загадочной игрой красок на чешуе, когда султанка помирала…
Скоро на блюде остался жалкий скелетик красавицы.
– Хотелось бы мне знать, – сказала Екатерина, наевшись, – что еще кроме рыбки получим мы от обретения Тавриды?
– Очень много неприятностей, ваше величество.
– Ладно. Я сыта. Начнем собираться во Фридрихсгам…
Корабли опускали якоря на добрый грунт Севастополя!
Европа тысячу лет помалкивала, когда татары истощали Русь, пленяя в рабство самых здоровых мужчин и самых красивых женщин, а теперь все политики хором закричали о насилии над бедными татарами. Особенно возмущался граф Вержен в Версале, и Екатерина устроила за это головомойку послу Франции.
– Вы, маркиз, – сказала она де Вераку, – нотации версальские оставьте на столе в моей канцелярии. Я делаю, что хочу, и делаю это не у берегов вашего Ньюфаундленда, а там, где у меня города строятся. Договариваться о делах Крыма я не с Верженом намерена: в Константинополе мой посол имеется, и, слава богу, турки его в Эди-Куль пока еще не сажают.
– Я позволю себе, – отвечал де Верак, – считать оккупацию Крымского ханства явлением временным.
– А когда вы, французы, станете брать у турок Египет, мы согласимся, дорогой маркиз, считать оккупацию постоянной…
Фридрих II, дожевывая паштеты из угрей, тоже протестовал, но скорее от зависти – на русском столе появится жирная кефаль и каперсы для супа, а ему от благ Крыма вряд ли что перепадет. Франция вдруг ослабила дипломатическое давление на Петербург: все гири, которые потяжелее, гибкий политик Вержен удачно переставил на чашу весов в Константинополе, дабы вред России исходил уже не от Версаля, а со стороны султанских визирей… Как видите, человек был умный!
Яков Иванович Булгаков решительно отвергал протесты Турции, в очень нервной беседе с визирем он даже кричал:
– Не вы ли Очаков и Суджук-Кале заново отстраиваете? Не вы ли сколько уже раз нарушали артикулы Кучук-Кайнарджийского мира? Не вы ли в Тамани ногаев возмущаете? Не вы ли крепость Анапскую возрождаете? А между тем, – развел он руками, – среди татар крымских воцарилось спокойствие и благодушие.
– Вы хитрые! – сказал ему визирь. – Зачем кричать? Вы сами знаете, что к войне мы еще не готовы. Но зачем, отвечайте, ваша кралица, дама уже в летах, наводит на себя красоту, собираясь на встречу с молодым королем Швеции?
Булгаков об этом свидании еще и сам не знал:
– А кто может воспретить брату с сестрой видеться?