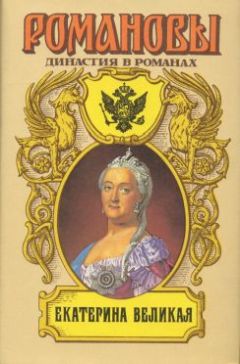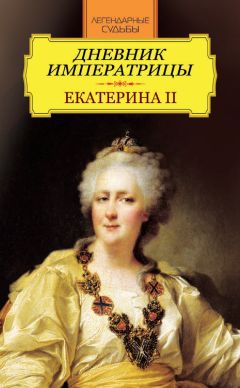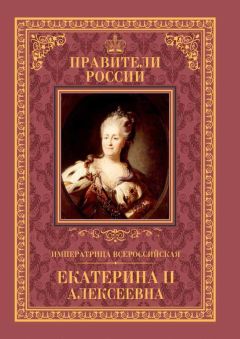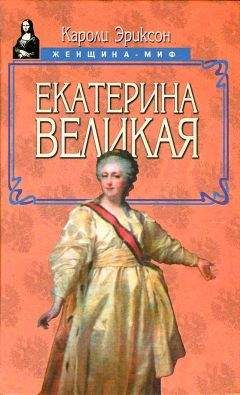– Если, Ваше Высочество, назначить его брата Григория, – кивает на Алексея Орлова Разумовский, – цальмейстером артиллерийского штата?..
– Пётр Иванович на оное никогда не согласится. Как ни мало он ревнив, он Григорию Елены Степановны не простит, – говорит Орлов.
За спиною Великой Княгини на маленьком кресле, свернувшись комочком, сидела Дашкова. Она слушает разговор с раздувшимися от волнения ноздрями. Она всё понимает с полуслова. Она ждёт времени, чтобы сказать своё слово, чтобы показать и своё участие в том, о чём говорится.
– Пётр Иванович очень плох, – чуть слышным шёпотом говорит она. – Дядюшка говорил мне – навряд ли выживет. На его место прочат Вильбоа, а Вильбоа ваш камер-юнкер, он из вашей воли не выйдет – свой человек.
Великая Княгиня будто не слышит, что говорит Дашкова. Она снова вся в картах, в игре.
– Кладу девятку… У вас?..
– Дама… Валет…
– Бррр!..
Разумовский кончил игру и встал, будто чтобы промяться, прошёл за ширмы, где Великий Князь. Великая Княгиня вопросительно на него посмотрела.
– Нет. В зале с собакой и Елизаветой.
– Боюсь Никиты Ивановича. Он может всё испортить. Упёрся на Пуничке. Не может понять, что Пуничка ребёнок, и значит… Нет, сие не годится.
Орлов взял со стола серебряный рубль и давит его своими крепкими сильными пальцами.
– Ваше Высочество… И Измайловский полк?.. Как думаете?..
– Ничего я ещё о сём не думала, Алексей Григорьевич.
Орлов сжал рубль, согнул его и плоским колпачком бросил перед Великой Княгиней.
– Сила, Ваше Высочество, солому ломит. В Измайловском – подполковник граф Кирилл Григорьевич.
Великая Княгиня смотрит на Разумовского, тот отворачивается и мурлычет что-то про себя.
Орлов смотрит то на него, то на Великую Княгиню и говорит:
– Много людей не надо. Всё одни сделаем. Дайте срок.
Лицо Великой Княгини покрывается румянцем волнения, и оно становится особенно милым. В тёмных глазах горит, не угасая, пламя. Она вся холодеет и чувствует, как под платьем дрожат ноги. Она видит, с какою страстною, всё сокрушающей любовью смотрят на неё мужчины. Может быть?.. Любовь?.. Она всё побеждает. Но она сейчас же овладевает собою.
– Сдавайте, судари, карты. Будем продолжать.
Карты пёстрым рисунком ложатся по столу. Великая Княгиня их почти не видит. Она, как сквозь сон, слышит, как сказал Строганов:
– Молчание золото, добрая речь серебро.
Эту «пулю» Великая Княгиня проигрывает.
В день Рождества Христова 1761 года, во вторник, в третьем часу пополудни, Государыня Императрица Елизавета Петровна преставилась. По-христиански кротко, с глубочайшею верою, она готовилась к смерти, она всё продумала, обо всём, даже до порядка своих похорон, распорядилась, и ни у кого не могло быть сомнения: престол российский по её кончине должен был принять её племянник Пётр Фёдорович.
Великая Княгиня точно закостенела. Она, не отходившая все последние дни жизни от больной, сейчас же по смерти Государыни со старыми дамами графиней Марией Андреевной Румянцевой, графиней Анной Карловной Воронцовой и фельдмаршальшей Аграфеной Леонтьевной Апраксиной убрала тело покойной и окружила его цветами. Забегали, засуетились по дворцу скороходы, понесли повестки по дворцовым службам, поскакали фурьеры по городским квартирам: на вечер был объявлен в дворцовой церкви молебен о благополучии государствования Государя Петра Фёдоровича, а после него парадный обед в куртажной галерее. Дамам было повелено быть в цветных робах. Смерть прошла мимо, жизнь вступала в свои права, и делала она это резко и крикливо, без соблюдения уважения к непогребённому и неотпетому ещё телу в Бозе почившей.
Переодевшись в бальное платье, Великая Княгиня, прежде чем идти в церковь, по внутренним коридорам дворца, полутёмным и пустым, направилась к покоям усопшей Государыни. Стоявший у дверей опочивальни Государыни громадный гренадер лейб-кампании с треском откинул ружьё по-ефрейторски «на караул». Екатерина Алексеевна вздрогнула от неожиданности и спросила:
– По чём ты меня, братец, узнал в темноте?..
– Кто тебя, матушка, не узнает, – смело ответил гренадер. – Ты в темноте освещаешь места, которыми проходишь.
– Как тебя звать?..
– Наэрин, Ваше Императорское Величество.
В антикамере, перед спальней Государыни, Екатерина Алексеевна остановилась и вызвала к себе караульного офицера.
– Вот золотой, – сказала она, – передай его гренадеру Наэрину, когда он сменится с поста. Скажи – за бравый вид и смелый ответ.
Опустив голову, прелестная контрастом цветного, парадного платья и печалью голоса и глаз, она кивком головы отпустила офицера и тихо пошла к покойнице.
Кто знает, кто может угадать, что в эти страшные часы у тела Государыни Елизаветы Петровны думала и переживала Екатерина Алексеевна? От неё до нас дошли подробнейшие её дневники, но дневники эти описывают то, что было много дней спустя, в них Екатерина Алексеевна ищет, как оправдаться перед потомством и смягчить резкость своих поступков, в эти же печальные и страшные дни ей некогда было писать, и можно только догадываться, как почти бессознательно она продолжала то, что давно задумала, о чём она мечтала ещё тогда, когда была девушкой, когда только что приехала в Россию и поразилась её величиной, красотой, силой и… контрастами.
В эти жуткие часы, когда ещё не остывшая покойница лежала на одре болезни, окружённая цветами, когда только ещё начинали читать по ней и в покоях стояла та печальная тихая суета, какая бывает при теле умершего человека, – эти контрасты особенно били ей по нервам и крепили её мужество и решимость.
В тёмной и холодной опочивальне, где были открыты форточки, мерцали гробовые свечи. Дежурство только что заняло свои места. Священник тихо, точно для одной покойницы читал Евангелие. Напряжённо спокойно было лицо Государыни Елизаветы Петровны, и страдания исчезли с него. Народ ещё не пускали. Неподвижно стояли часовые лейб-кампании. Екатерина Алексеевна преклонила колени перед телом умершей и долго стояла в сосредоточенной молитве. Потом она поднялась, поцеловала холодный лоб умершей и пошла через залы к церкви.
Гул голосов, шум, крики, брань поразили Екатерину Алексеевну после тишины у тела Государыни. Придворные и голштинцы спорили и обсуждали новые назначения и реформы, которые носились в воздухе.
Вдруг всё смолкло, застучали тростями церемониймейстеры, толпа расступилась, Император в расстёгнутом у ворота преображенском мундире, сопровождаемый Елизаветой Романовной Воронцовой, арапом и придворными, торопливым шагом пошёл в церковь. Он не поклонился своей жене. В церкви он стоял беспокойно, беспрестанно оглядывался, подмигивал кому-то, улыбался. Он показался Екатерине Алексеевне смешным арлекином.
Служил Новгородский митрополит Сеченов, и будто и не было смерти, только что похитившей всеми любимую Государыню, о ней и не говорили, её не поминали. Всё было о новом Государе, всё было для Государя Петра Фёдоровича.
Из церкви шествием направились в «куртажную» галерею. Гофмаршальская часть не успела распорядиться, повесток было послано больше, чем приготовлено мест для приглашённых, и часть гостей стояла в проходах. Вчерашнему фавориту Ивану Ивановичу Шувалову[124] не оказалось места, и Мельгунов упрашивал его сесть на свой стул. Екатерина Алексеевна с ужасом и отвращением смотрела на лицо Ивана Ивановича, всё в кровавых царапинах и потёках крови – он при известии о смерти Государыни в порыве искреннего или театрального отчаяния ногтями разодрал себе лицо. Он стоял, тяжело дыша от негодования и горя, за стулом Государя. Екатерине Алексеевне он показался сильно пьяным. Ей стало страшно во дворце среди этих шумливых и нетрезвых людей. И страшнее всех казался Император. Вдруг в этот вечер, полный таких сильных и разнородных впечатлений, почувствовала она в своём супруге бурную и неуёмную кровь Петра Великого и поняла, что схватка с ним будет решительная и смертельная.
Император точно не замечал своей жены. Он шутил с Елизаветой Романовной, сидевшей против него, на другом конце стола, он говорил, точно издеваясь, Никите Ивановичу Панину загадочные и страшные речи:
– Ну, братец, теперь только держись, нынче я расправлюсь с датчанами по-свойски!.. Как ты, братец, о сём полагаешь?..
Панин был смущён – кругом были уши, недалеко сидели иностранные представители, и как могли они истолковать слова самого Государя? Он растерялся и, думая прийти на помощь Государю и замять неосторожно и необдуманно сказанные слова, ответил:
– Я недослышал, Ваше Величество, о чём говорить изволите. Очень тут шумно.
– Недослышал?.. А, недослышал!.. Тогда недослышал, ныне опять недослышал. Я тебе ототкну-ка уши да научу лучше слушать, что говорит Государь. Вот и пожалую я тебя в генералы от инфантерии да пошлю тебя противу датчан.