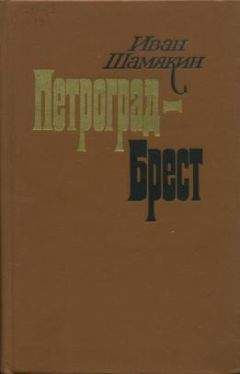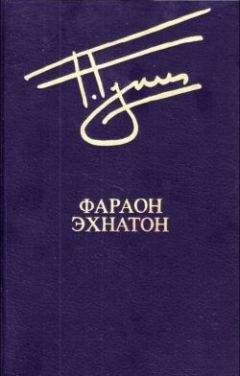Так же весела была Мира по дороге в штаб: они поехали в том же возке, с тем же солдатом, что вез их вчера на свадьбу.
Еще более просветленной вернулась она из казармы второго батальона — барака, где когда-то жили батраки; хорошо поговорила с солдатами.
Когда Пастушенко догадливо вышел из комнаты, Мира прижалась к мужу, прошептала:
— Сережа, дорогой мой, если б ты знал, как хорошо быть женой: не нужно бояться оскорблений.
Богуновича передернуло. Какой же он дурак! Не видел, что два месяца она жила под этим страхом. И очень может быть — оскорбляли. Солдаты есть солдаты. Да и крестьяне с их нравственным максимализмом. Но она молчала. Сергей выругал себя: так долго не мог додуматься до простой вещи — оформить их отношения любым образом, по любому закону — церковному, светскому, советскому.
А через какой-нибудь час пришло оно — тяжелое похмелье в виде телеграммы из штаба фронта, в которой говорилось, что демобилизация отменяется, мир в Бресте не подписан.
Сначала Богунович испытал состояние шока — был оглушен, подавлен. Казалось, кто-то безжалостный очень зло пошутил над ним, над Мирой, над всеми… Над всем народом. Как можно так шутить?!
А когда приехали соседи — Черноземов и Скулонь — с тем же известием, Богунович взорвался:
— Я перестаю уважать правительство, которое декретирует мир народу и не подписывает его… Ваш Ленин…
— Не смей! — испуганно закричала Мира.
Флегматичный латыш Скулонь схватился за кобуру:
— Если ты скажешь плёхо о товарищ Ленин, я застрелю тебя.
Между ними встал Черноземов, по-отцовски разведя их своими могучими руками, в кожу которых въелись уголь и металл.
— Спокойно, товарищи, спокойно… Вот петухи молодые! Ай-яй. Еще заклюют друг друга, чего доброго.
С другой стороны выступал миротворцем Пастушенко:
— Сергей Валентинович, голубчик, не нужно. Возьмите себя в руки. Нельзя же так…
Богунович обессиленно сел, облокотился о стол, сжал руками голову — почувствовал под ладонями удары пульса в висках, удары, несущие острую боль в голову, в грудь.
Черноземов сел рядом, положил свои большие руки на стол перед его, Богуновича, глазами. Удивительные руки. Удивительно спокойные. И слова у него особенные. Несмотря на звон в ушах, на острую боль в голове, Богунович сразу услышал их. Черноземов сказал, видимо, Мире:
— Плохо вы политически просвещаете своего командира. Каждому солдату известно, что Ленин за мир… Против мира — «левые» и Троцкий. А Троцкий вел переговоры…
Богунович вспомнил человека, так оскорбительно сунувшего Мире в вагоне шоколад, и снова взорвался:
— Расстрелять его мало, вашего Троцкого!..
— Не смей! — снова крикнула Мира.
Возмутился Скулонь:
— Ты — за кого? За кого ты?
— Я? — Сергей вскочил. — Я — за народ. За русский народ. И за латышский! И за латышский, черт возьми! За белорусский. За еврейский. Я за тех, кто не хочет умирать. А ты за кого? Ты сбросил одних идолов, чтобы кланяться другим… Подумаешь — Тро-о-цкий! Святыня!..
Черноземов, легко взяв Богуновича за локоть, принудил его сесть, заговорил, усмехаясь и качая головой:
— Вот не думал, что ты такой горячий. Мы считали тебя самым спокойным командиром. Ты чего разошелся? Ты знаешь, какие условия немцы поставили? Нет.
И я не знаю… Может, такие, что и мы с тобой не подписали бы мир.
Богунович повернулся к командиру Петроградского полка, заглянул в глаза, глядевшие строго и ласково из-под рыжих опаленных бровей. Глаза эти удивительно успокаивали.
— Чего я разошелся? Я вам скажу, Иван Филаретович, чего. Я три с половиной года убивал. Я по горло в крови. Я захлебываюсь в ней. Это вы можете понять?
Черноземов вздохнул:
— Это, сынок, я могу понять.
Слова его еще больше успокоили. Или, может, не столько слова, сколько длинная пауза — будто минута молчания в память погибших. А потом, наверное, каждый боялся нарушить ее, эту мирную тишину, все понимали: лучше помолчать, чем ссориться, да еще так — с выходом на высокую политику, затрагивая людей, которых никто из них лично не знал и о которых поэтому не мог иметь собственного мнения. Эмоции — плохой советчик в любом споре, в политическом — тем более.
Богуновичу стало стыдно за свою несдержанность. Однако и латыш — тоже порох. О латышах говорят, что они спокойная нация, а этот хватается, черт, за наган. Хорошо, Черноземов не дал воли своим эмоциям. А он, Богунович, видел, что кузнец может быть горячим. Волевой командир: в его пролетарском полку — дисциплина, какой он, кадровый офицер, позавидовал.
В тишине услышал Сергей, как за спиной у него тревожно дышит Мира. Понял: боится за него, боится, что за такие высказывания питерские большевики пришьют ему контрреволюцию. А она же, как никто, знает, что хотя он и беспартийный, но всей душой за революцию.
Сергею стало жаль жену: за одни сутки он несколько раз уже отмечал, что она все больше и больше становится похожей на его мать, в ней как бы пробудилась разом вся женственность.
Первым после молчания подал голос Черноземов:
— Ну, пошумели — и хватит. А теперь давайте спокойно подумаем.
— О чем?
— О том, например, что будем делать, если немцы начнут наступление.
Богунович вспомнил батареи, замеченные им, когда ходил к немцам, вспомнил донесения разведчиков, что перед ними свежая дивизия, представил картину немецкого наступления и, пожалуй, впервые за всю войну ужаснулся. Поднялся, взволнованно прошелся по комнате, остановился напротив Черноземова.
— Иван Филаретович, если немцы начнут наступать, мы будем сметены за час боя.
Черноземов опустил голову — как бы задумался над ответом. Потом оживился, сверкнул глазами, осмотрел сразу всех — Пастушенко, Скулоня, Миру. Однако остановил взгляд на Богуновиче.
— Что же ты предлагаешь? Открыть фронт без сопротивления? Сдать немцам Петроград, Москву? Пусть, кайзер душит революцию?
На это Богунович не знал, что ответить. Спросил неуверенно:
— А вы что предлагаете?
— Нужно стоять насмерть! — ответил Скулонь.
— Зачем пугаешь людей, Арвид? — тихо поправил своего комиссара Черноземов. — Будем стоять на жизнь. Нужно задержать немцев. До подхода новых полков Красной Армии. Рабочих полков. Мы можем рассчитывать на возмущение немецких солдат, которых генералы бросят в новую бойню. Два месяца перемирия, братание, большевистская агитация — все это не могло не просветить их мозги. Разве не так?
— Если вы дезертируете все, Петроградский полк все равно будет защищать свой участок… До последнего бойца! — все с той же решительностью, может, излишне пафосно сказал латыш. — Товарищ Ленин как говорил? Теперь мы все оборонцы…
— Мы не дезертиры! — возмутился Пастушенко, но тут же понизил голос и разъяснил: — Мы — военные люди, голубчик. Мы присягали… народу, революции. Конечно, мы будем стоять… Если будет приказ…
Богунович прислонился к косяку окна, чувствуя себя обессиленным, загнанным в угол, из которого не видно выхода. Все еще кипела злость на правительство, на главное командование. Что там делается наверху? Одна рука не знает, что творит другая? Такого даже при Керенском не было. Отдать приказ о демобилизации и через сутки отменить. Чем они думают?
Но огонь затухал. Богунович понимал, что поворот произошел не из-за чьего-то чудачества или сумасшествия. И не из-за ошибки адъютанта или телеграфиста. Что-то, конечно же, случилось. Петр Петрович сказал разумно: мы — военные люди. Да, мы готовы защищать свои позиции. Но с кем, полковник Пастушенко? С кем? Через неделю-другую мы останемся с вами вдвоем. Ну, еще Степанов, Мира… Может, несколько комитетчиков-большевиков, если комитет проголосует. Этими силами вы хотите остановить немцев? Наивно.
Почему вы смотрите на меня? Ожидаете, что скажу? Смешно. Господа… товарищи, я не фельдмаршал Кутузов. Я всего только поручик Богунович, возненавидевший войну через три месяца после того, как попал в окопы, по дурости своей, вольноопределяющимся. Если хотите знать, солдаты выбрали меня командиром за мою ненависть к войне. Я согласился, поверив в мир. А теперь я должен вести их на смерть?
Однако они действительно ожидают, что я скажу. А что сказать? Сложить с себя командование? Стать дезертиром? Нет! Дезертиром я не стану!
«Я знаю, этого не простила бы мне и ты», — сказал он Мире, приблизившись к ней, настороженной, почти испуганной. Вдруг захотелось взять ее за руку и повести из этой комнаты, где снова запахло кровью, подальше от линии фронта, туда, где тишина, мир, покой. А где он, покой? «Покой нам только снится».
Сергей взял Мирину руку и, к своему собственному удивлению, сказал:
— Вчера я женился. Это — моя жена. Поздравьте нас.
Стояли сильные февральские морозы. Возможно, последние перед весной. В такой собачий холод даже в самый разгар войны фронт замирал, люди, как кроты, забивались в землянки, уходили под землю. Офицеры пили водку и резались в карты. Солдаты в своих норах, там, где были печки и дрова, досыпали те часы, что не доспали во время боев.