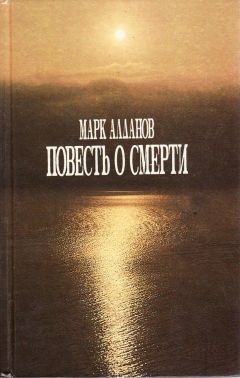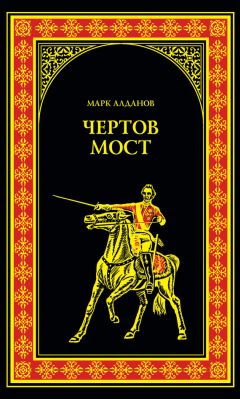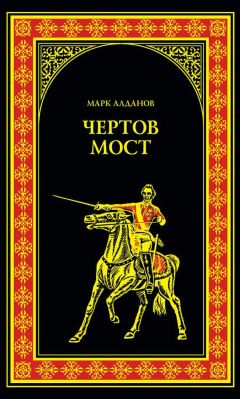От опротивевшей ему современной жизни можно было уйти в прошлое: в исторический роман. Он решил написать эпопею о Наполеоновском походе на Москву. Для этого необходимо было повидать поля сражений, расспросить тех русских участников войны, которые еще были живы. Для романа необходимы были также спокойствие и уединение деревни. Бальзак и без того принял решение: надо вернуться в Верховню. Ганская звала. Он понемногу успокоился. Опять стал думать о политической карьере, но о другой: отчего бы в самом деле не принять русское подданство и не стать ближайшим советником императора Николая? Думал не очень серьезно, — поиграл в мыслях и этой ролью, как незадолго до того поиграл ролью графа Мирабо в Национальном собрании. Вдобавок, всё больше приходил к мысли, что будущее принадлежит России, где никакой революции нет и не будет. Обедая у Ротшильдов с Тьером, Бальзак назвал Россию наследницей римской империи. — «Вы правы. Россия со временем съест Германию», — сказал Тьер.
Однако, теперь, после революции, получить русскую визу было французу еще гораздо труднее, чем прежде. У Бальзака были добрые отношения с русским министром народного просвещения. Граф Уваров сам что-то писал, по французски, по немецки: о Наполеоне, о греческих трагиках, о Венеции. Одну из своих работ он даже послал Гёте, с просьбой извинить несовершенство его немецкого языка. (Гёте ответил ему: «Пользуйтесь с миром тем огромным преимуществом, которое вам дает незнание немецкой грамматики: я сам тридцать лет работаю над тем, как бы ее забыть»). Бальзак еще из Верховни писал Уварову — как писатель писателю. Теперь отправил ему письмо с просьбой похлопотать о визе. Польщенный Уваров исполнил его желание. Одновременно Бальзак написал и шефу жандармов Алексею Орлову.
Разрешение было дано, хотя и без восторга. Орлов представил всеподданнейший доклад: «Принимая во внимание неукоризненное поведение де Бальзака во время прежнего пребывания его в России, а также и ходатайство о нем графа Уварова, я полагал бы, с моей стороны, возможным удовлетворить настоящую просьбу де Бальзака о дозволении ему прибыть в Россию». Николай I написал на бумаге: «Да, но с строгим надзором».
Надзор действительно был установлен. Несколько позднее киевский гражданский губернатор Фундуклей сообщил одесскому военному губернатору: «Государь Император всемилостивейше соизволил французскому литератору Бальзаку, бывшему здесь в прошлом году, приехать обратно в Россию, но с строгим над ним надзором. Бальзак прибыл в Сквирский уезд и получил от меня вид на пребывание в Киевской губернии и проезд в город Одессу. Имею честь просить ваше превосходительство, если Бальзак прибудет в Одессу, приказать иметь за ним строгий надзор, о последствиях которого не оставьте уведомить меня».
Надзор был несомненно излишен: Бальзак никак не собирался устраивать революцию в России. Но, быть может, скоро догадался, что едва ли станет ближайшим советником царя. Впрочем, его политические виды всё менялись. Он предполагал, что во Франции вернется на престол старшая линия Бурбонов и что его назначат французским послом, — колебался, что выбрать: Петербург или Лондон? Повидимому, этот человек громадного ума совершенно растерялся от революции. Он и не написал больше ничего значительного в остававшиеся ему два года жизни. Некоторые же его письма просто неловко читать. В благодарственном письме к Уварову он говорил: «Я намерен описать наше великое поражение 1812 года… Я заплачу когда-нибудь свой долг русскому гостеприимству, описав стойкое мужество ваших войск, противостоявшее бешенному натиску французов… Что же касается милости, оказанной мне императором, то мне кажется, что по отношении к нашим государям, как и к нашим отцам, мы невольно всегда оказываемся неблагодарными: они дают нам жизнь, а мы никогда не можем отплатить им тем же».
Так как своего государя у него тогда уже не было, да и прежнего, Людовика-Филиппа, он недолюбливал, то, очевидно, слова об отцах, дающих нам жизнь относились к Николаю I. Впрочем, вероятно, Бальзак такие письма писал чисто механически: не всё ли равно? Уж это по сравнению с искусством не имело ни малейшего значения.
В Россию он уехал не сразу. Умер престарелый Шатобриан, освободилось место во Французской Академии. Бальзак выставил свою кандидатуру. Как знаменитейший романист своего времени, он имел на избрание все права. Избран был какой-то герцог, носивший историческую фамилию, но в литературе известный преимущественно плагиатом, — впрочем совершенно невольным: плагиат совершил секретарь, писавший для герцога исторический труд. Этот герцог оказался преемником Шатобриана и победителем Бальзака. Тут уж революция и козни левых были ни при чем, — был собственно хороший случай подумать и о своих единомышленниках. Бальзак этим случаем не воспользовался, хотя видимо был в бешенстве.
Июньского восстания он не видел, — отдыхал в провинции. В сентябре, достав взаймы пять тысяч франков, выехал в Россию. Романа о войне 1812 года он, однако, не написал. Написал вместо Бальзака другой.
Раг un chemin plus court descendre chez les morts[102].
Racine
Дилижанс был новенький, с мягкими кожаными подушками. Вначале разговор не клеился, но через час итальянский кондуктор протрубил в рожок и на полуитальянском-полуфранцузском языке прокричал, что эта долина славится на весь мир своей красотой. Тотчас начал восхищаться вслух природой пожилой благодушный венец, и понемногу все стали разговаривать и знакомиться. Только Лейден молчал.
Позднее он думал или, по крайней мере, говорил себе, что в нём произошло разтроение, что он в те дни жил, якобы, в трех плоскостях. В одной плоскости был человек, справлявшийся в почтовой конторе о часе отхода дилижанса, укладывавший вещи, пересчитывавший деньги, соображавший, когда он может приехать в Киев. Этот человек в тот самый день, если не ел, то пил, условился с хозяином гостиницы о доставке вещей в почтовую контору, заплатил носильщику, оставил свой киевский адрес. Другой человек еще был каким-то подобием Тициановского Неизвестного, — именно только подобием: с этой «плоскостью» Лейден лишь соприкоснулся, выпив много, очень много вина, — скользнула мысль, что Неизвестный, быть может, отравил несколько жен и уж во всяком случае к естественной смерти жены отнесся бы совершенно равнодушно; но эта мысль у него именно лишь скользнула, — хотя самое воспоминание о ней, о том, что она могла скользнуть, было для Константина Платоновича мучительным до конца его дней. И, наконец, была еще какая-то третья плоскость, где не было ни Ба-Шара, ни Би-Шара, где как будто был просто сходивший с ума человек. Он заходил во Флоренции в магазин оружия, — учтивый приказчик, со вздохом, с неодобрительным отзывом о властях, сказал, что, в виду тревожных событий, продажа пистолетов временно запрещена. — «В виду тревожных событий», пробормотал Лейден и зашел еще в аптеку, стараясь вспомнить названия ядов. Аптекарь угрюмо ответил, что такие вещества не продаются без предписания врача, и затем спросил, не хочет ли он выпить воды. Третий человек, несмотря на душевное расстройство, подумал, что есть нечто глупое, смешное, унизительное в тщетных поисках способа самоубийства, что настоящий просто поднялся бы на крышу вон того палаццо и бросился бы вниз головой; подумал также, что верно не покончил бы с собой, если б ему и продали пистолет или яд, что себя обманывать не только гадко, но и глупо, — Би-Шары хоть тем выгодно отличаются от Ба-Шаров, что себя не обманывают. «Зачем?.. Что я сделал уж такого постыдного?.. Всё условно, всё условно»… — бессмысленно повторял он и через час, по дороге на почтовую станцию. Пошатываясь, дошел с чемоданчиком в руке, поднялся в дилижанс и повалился на мягкую скамейку, с облегчением подумав, что делать больше ничего не нужно и нельзя до самой Вены.
Венец всех развлекал. Вначале итальянцы еще немного его чуждались: он здесь представлял враждебную расу завоевателей. Однако он нисколько себя завоевателем не чувствовал и скоро покорил всех пассажиров своим благодушием, весельем и необыкновенной бодростью. Видимо он не представлял себе, что может быть что бы то ни было тягостное в жизни, или совершенно этому не верил. Еще часа через два кондуктор, опять протрубив, радостно сообщил, что они подъезжают к гостинице Белого Коня, известной своим прекрасным местоположением; там можно будет получить отличный обед. Это увеличило общее оживление. На остановке венец легко соскочил, несмотря на свое брюшко, галантно помог сойти дамам, — протягивал руку каждой и говорил: «So!.. Brav!.. Schon!..»[103] Затем быстро проделал легкую гимнастику, радостно, как со старым знакомым, поздоровался с хозяином гостиницы, расспросил его об обеде, много ел, много пил, всё время болтал и всем восхищался. Чрезвычайно хвалил Италию, но был в восторге от того, что возвращается в Вену.