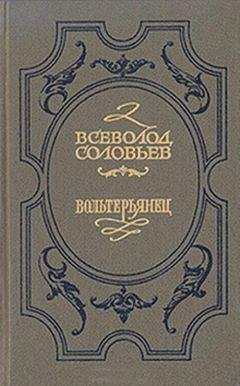— Но в таком случае поищем такой уголок, где бы можно было отдохнуть. Я давно не чувствовал такой усталости.
— Вот это дело другое, отдохнуть и мне не мешает. Нам непременно надо поберечь силы.
Он хорошо знал расположение этих комнат и провел Сергея в небольшую приемную, где почти никого не было и где они поместились на большом удобном диване.
— Если можете уснуть, — сказал Ростопчин, — засните. Я разбужу вас, когда будет нужно.
— Да вы и сами, пожалуй, заснете?
— Я-то? Нет, я не засну, я отдохну и не засыпая. Между немногими качествами, которые я признаю за собою, у меня есть одно, а именно: я умею отдыхать и даже дремать, не забываясь окончательно, продолжая все слышать и соображая, когда надо очнуться и встать на ноги.
Сергей действительно был так утомлен, что прислонился головой к подушке дивана и через минуту уже спал. Его сон продолжался несколько часов. Ростопчин разбудил его.
— Однако какой вы счастливый человек, в такую ночь и спать можете! Я тоже отдохнул, но три раза был там и сейчас оттуда. Ее положение не улучшается нисколько. Пойдем туда.
Сон значительно освежил Сергея. Он уже мог теперь ясно отдать себе отчет во всем.
— Пойдем, пойдем! — живо проговорил он, вскакивая с дивана и чувствуя, как охватывает и его интерес этих торжественных и печальных минут.
Они снова направились к спальне императрицы. Там ничего не изменилось, будто прошло не несколько часов, а несколько минут с тех пор, как Сергей вышел. Все были на своем месте.
Екатерина лежала все так же неподвижно, окруженная все теми же самыми лицами. Зубов сидел на своем кресле, с искаженным лицом, с блуждавшими глазами. Ежеминутно в комнату входили новые лица, беззвучно затаив дыхание, оставались несколько мгновений, прислушивались и так же неслышно уходили. В соседней комнате была та же толпа народа, и каждый старался стоять на виду, попасться на глаза кому нужно. Минуты проходили за минутами, утро приближалось. Вот в толпе произошло некоторое движение.
«Идет!» — расслышал Сергей несколько голосов.
Он оглянулся — входил цесаревич.
Павел шел своей прямой, военной походкой, ни на кого не глядя. Он прошел в спальню, подозвал к себе Роджерсона и других докторов и спросил:
— В каком она теперь положении?
— Все в том же, ваше высочество! — ответили ему.
— И решительно никакой надежды?
— Никакой!..
Цесаревич вышел из спальни, заметил Сергея и обратился к нему:
— Пожалуйста, призови преосвященного Гавриила с духовенством, скажи, что нужно прочесть глухую исповедь и причастить государыню Святых Тайн.
Сергей поспешил исполнить это приказание. Через несколько минут в спальню входило духовенство. Екатерина не приходила в себя. Ее причастили. Цесаревич и великая княгиня горячо молились. Зубов не удержался и громко зарыдал. По лицу Марьи Саввишны катились тихие слезы. Павел несколько минут еще постоял возле государыни, а затем вышел. Возле него оказался Ростопчин.
— Тебя мне и надо, — сказал Павел. — Позови Горбатова и идите за мною в кабинет.
Ростопчин сделал знак Сергею. Завистливые и подобострастные взгляды провожали их. Придя в кабинет и заперев за собою двери, Павел обратился к Ростопчину и Сергею:
— Господа, — сказал он, — я знаю вас такими, каковы вы есть, и на ваш счет не обманываюсь… Я на вас рассчитываю. Скажи мне, Ростопчин, скажи откровенно: чем ты при мне быть желаешь?
— Ваше высочество! — спокойно и в то же время несколько торжественно проговорил Ростопчин. — Истребление неправосудия — вот то, к чему я всегда стремился… вот та цель, к достижению которой послужить мне бы хотелось!.. А посему, отвечая на милостивый вопрос ваш, я, не задумываясь, могу просить: сделайте меня секретарем для принятия просьб!
Павел промолчал несколько мгновений, прошелся по комнате и сказал:
— Тут я не найду своего счета; знай, что я назначаю тебя генерал-адъютантом, но не таким, чтобы прогуливаться по дворцу с тростью, а для того, чтобы ты правил военною частию. Ты смыслишь в этом деле, ты от юности им занимаешься и питаешь к нему страсть — ты хорошо доказал мне это. А самое важное — приурочить человека к тому занятию, которое составляет его призвание.
Ростопчин немного поморщился и молчал. Сергей удерживал невольную улыбку, которая так и просилась на его губы, несмотря на торжественность минуты:
«Вот она, удивительная коллекция оружия! Попался сам в свои сети!» — невольно подумал он.
Но Павел, задумчиво ходивший по комнате, не заметил неудовольствия своего любимца.
— Итак, я назначаю тебя своим генерал-адъютантом! — проговорил он, останавливаясь перед Ростопчиным.
Тот отвесил глубокий поклон.
— А ты чего же попросишь? — обратился цесаревич к Сергею. — Впрочем, я знаю — ты ничего просить не станешь. На первое время жалую тебя в гофмаршалы!
И, не дослушав благодарности Сергея, он прибавил:
— Теперь, господа, позовите ко мне камер-пажа Нелидова, мне нужно спросить его о Катерине Ивановне, может быть, он видел ее сегодня…
Сергей уже не помышлял о том, чтобы ехать к себе домой. Он мало-помалу, незаметно для самого себя, входил в эту общую тревожную жизнь. Между тем, несмотря на томительное ожидание, время шло как-то незаметно. О времени даже совсем забывалось. Наступило утро, не принеся никакого изменения в положении императрицы, — ее могучая натура все еще боролась с неизбежной смертью. По-прежнему все члены царского семейства, за исключением цесаревича, который оставался у себя, почти неотлучно находились в спальне вместе с докторами, князем Зубовым и другими приближенными Екатерины.
Все забыли о сне, не сознавая усталости и голода.
Генеральша Ливен почти силою увела великих княжен, заставила их напиться чаю и уложила спать, дав им слово, что разбудит их, когда будет нужно.
— Вам необходимо поберечь свои силы, — решительным, не допускающим возражений тоном, сказала она им. — Своим присутствием в спальне бабушки, своими слезами вы ничему не поможете. Помолитесь Богу и положитесь на Его милосердие. Каждому человеку суждено умереть, и мы должны смиряться перед Божьей волей. Будьте же благоразумны!..
Великие княжны горько плакали. Они искренне любили бабушку и знали ее только как бабушку, подчас строгую и взыскательную, но гораздо чаще ласковую и добрую. Им, конечно, нечего было возражать на рассуждение воспитательницы, и они подчинились ее требованию — разделись, легли и долго горько плакали, спрятав свои милые детские лица в подушки. Но природа взяла свое — они заснули.
Между тем, во дворец все прибывало и прибывало народу. Почти весь Петербург уже знал о несчастье, которое вот-вот должно было совершиться, и всякий, кто имел только возможность проникнуть во дворец, спешил туда.
Цесаревич несколько раз призывал к себе то одного из сыновей, то Ростопчина, то Сергея. Все они заставали его сосредоточенным, задумчивым. Он спрашивал, нет ли какой перемены и, узнавая, что все по-прежнему, движением руки отпускал их и погружался снова в свои думы.
Таким образом, для того чтобы получить возможность иметь самые точные сведения на случай нового зова цесаревича, Ростопчин и Сергей должны были часто заглядывать в спальню и, выходя из нее, им приходилось отвечать на вопросы, со всех сторон к ним обращаемые.
К Сергею то и дело подходили новые лица, из которых очень многих он совсем даже и не знал. Ему отрекомендовывались, изыскивали все способы указать на общих родных, общих знакомых. Но в этой толпе часто приходилось ему сталкиваться и с более или менее близкими ему людьми, на которых он, так сказать, отдыхал от окружавшей его фальши и лицемерия. Так он должен был употребить большое усилие, чтобы хоть несколько успокоить Льва Александровича Нарышкина, который, подобно многим, со вчерашнего дня не покидал дворца и выказывал признаки истинного горя.
Этот вечно веселый и шутливый человек теперь был совсем неузнаваем. Он то и дело вытирал глаза, наполнявшиеся слезами.
— Господи, кто бы мог это думать? — говорил он прерывающимся голосом Сергею. — Вчера-то, вчера… то есть третьего дня вечером… не даром мне щемило сердце!.. Надо мною она шутила… меня стращала смертью… а смерть уже подкарауливала ее… была уже у нее за плечами… Я чувствовал, что плохо ее здоровье, что долго не протянет она… Но что это несчастье случится так скоро — не ожидал… никак не ожидал!..
Он зарыдал, как ребенок. Чем было его утешать? Сергей хорошо понимал, что всякие слова бессильны.
Он ласково взял дядю под руку, увел его подальше от толпы, усадил на диван и дал ему возможность выплакаться. Это было единственное средство его успокоить. Перед посторонними он должен был невольно сдерживаться, и это было чересчур тяжело ему. Действительно, Нарышкин облегчил себя слезами.