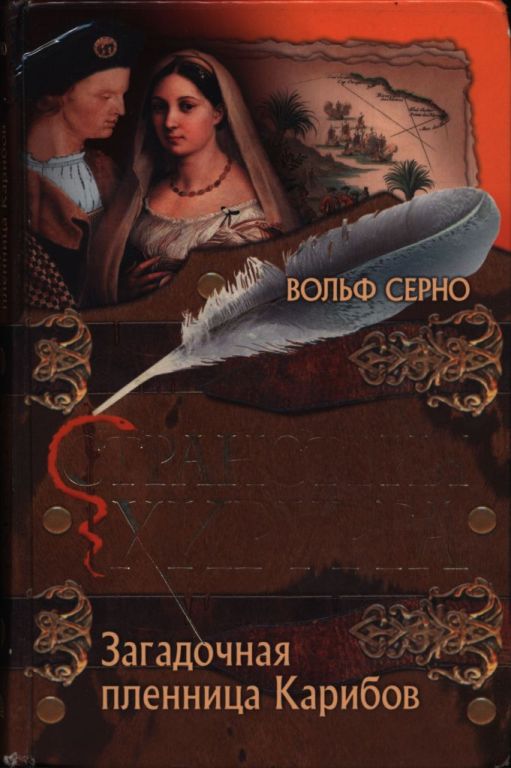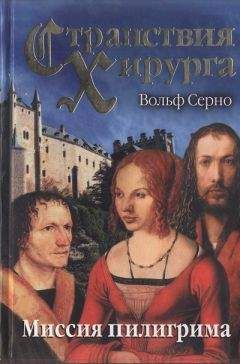и каждый раз Филлис знала ответ. Ни разу она не запнулась и не помедлила.
Потом он переменил тактику и стал называть наоборот, ожидая услышать слова на латинском. И снова Филлис отвечала без запинки.
Амброзиус усмехнулся:
— А как по-латыни «небо»?
— Этого слова ты не говорил, — тут же отреагировала Филлис. — Поэтому я не могу знать этого слова.
— Правильно. Это так, ради забавы. Кстати, «забава» — iocus, а «небо» — caelum. — Он вдруг заметил, что на последнем слове Филлис задрожала. — Тебе холодно?
— Нет-нет, просто ветер.
— «Ветер» по-латыни — ventus, а «холодный» — frigidus.
— Да? А как будет «медуза»?
— «Медуза»? Чего это тебе вдруг пришло в голову? — Амброзиус лихорадочно соображал, но слово никак не давалось. — Должен признать, что прямо сейчас никак не могу вспомнить…
— Да это такая маленькая, такая склизкая, которая живет в воде…
Филлис была не единственной, которая обнаружила в воде медуз. И Витус, и Коротышка видели уже не одну. Оба, перегнувшись через борт, тыкали в их скопища пальцами, а малыш еще и кричал:
— Уи, скользкие соглядатаи, они повсюду! Прощь, прощь! Прощь, скользкие создания, щур меня! Кишмя кишат! Захлебнулись вы щоб!
И правда, медуз было неисчислимое количество. Сотни тысяч, миллионы… Они дрейфовали с северо-запада на юго-восток. Шевелящимся ковром покрывали они морскую гладь и едва не сбивали «Альбатрос» с курса. Часами разыгрывали они свои феерические представления, пока шлюпка не отклонялась от курса.
— Медузы, — со знанием дела сказал Хьюитт. — Но стольких зараз я не видел.
Близорукий Магистр перегнулся через планширь, едва не нырнув, и завороженно наблюдал за океанскими пришельцами.
— У них купол вроде зонтика, — констатировал он. — А мускулатура под ним, — с восторгом заметил он, — такая, что может и самую сильную скотину прибить! С таким поступательным движением можно продвигаться и без парусов! Может, выловим экземплярчик?
Магистр, увлеченный этой идеей, уже потянулся за медузой, проплывавшей мимо, но крик Хьюита остановил его:
— Осторожнее! Они могут и ужалить!
— Спасибо, Хьюитт, лучше поздно, чем никогда. Другими словами, quidquid agis, prudenter agas et respice finem, как говорили древние.
— Что это значит, отец мой? — послышался голос Филлис. — Ни одного знакомого слова!
— Ты права, дочь моя.
А Магистр перевел:
— Что делаешь, делай с осторожностью, и думай о конце!
— А-а-а, quidquid agis, prudenter agas et respice finem, — заключила Филлис. — Правильно?
— Слово в слово, дочь моя, — подтвердил Амброзиус, кося в сторону, чтобы не видеть ее проникающих в душу васильковых глаз.
— А ты это знал, как и Магистр, нет?
Амброзиус закатил глаза:
— Естественно, дочь моя, иначе мы и наполовину не были бы латинистами!
— А, понимаю. А латинское слово на «медузу» ты скажешь мне потом, да?
Августинец только вздохнул в ответ.
Все еще февраль A.D. 1578
Уже несколько дней брат Амброзиус преподает мисс Филлис латынь. Он утверждает, что она природное дарование с неподражаемой памятью. А наряду с этим он прилагает усилия привить ей подобающий английский, что гораздо сложнее. Если мисс Филлис и вправду так талантлива, в чем я не сомневаюсь, вскоре она начнет изъясняться исключительно на латыни, только, наверное, с портовым акцентом. Попытки отца Амброзиуса заслуживают одобрения, поскольку вносят свежую струю в наше рутинное однообразие. Когда один день неотличимо похож на другой, а изо дня в день на завтрак, обед и ужин только рыбный суп, человек тупеет.
И каждый день — только восточный ветер, и каждый день — только безбрежный океан… При всем том мы еще живы и, слава Богу, здоровы. Господи, прости нам неблагодарность нашу!
Хьюитт неизменно удачлив в рыбалке. Три тунца с руку длиной позавчера, а вдобавок к ним рыбешка и побольше, которую мы никак не могли идентифицировать, но которая была страшно вкусной.
И Хьюитт же, святая простота, додумался до того, чтобы вялить рыбу на солнце, разделав ее на филе. Он у нас самый ценный член команды — единственный настоящий матрос, который хоть что-то смыслит в морском деле.
Вчера на удочку попался осьминог. Какая все же странная Божья тварь — с куполом вместо тела, с клювом, как у попугая, и восьмью цепкими щупальцами! Хьюитт сказал, что в момент испуга эта тварь выпускает столько чернил, что хватило бы на целую чернильницу, только мы ничего такого не заметили.
Мы убили осьминога, отрезали три конечности и раз сто отбили их на банке, потому что Хьюитт сказал, что только после этого мясо диковинного существа можно будет прожевать. И он оказался прав. Потом мы сварили осьминога, и суп был нечто новенькое!
Состояние судна не лучше, чем этой твари. Мы регулярно вычерпываем воду с днища, а парус со временем обветшал. Как только представляется возможность, мы чиним его. И каждый день спрашиваем себя, где мы и сколько еще продлится наше испытание. Только ответ на это знает лишь Господь Бог.
Чернила кончаются, и впредь мне придется быть более кратким.
Это случилось на следующий вечер, когда Амброзиус и Филлис сидели в средней части судна и наблюдали закатное солнце, которое в этих широтах падало за море, как камень, брошенный в воду.
После долгого молчания Филлис сказала:
— Отец, скажи мне честно, ты ведь не знаешь, как по-латыни «медуза», а?
Амброзиус, который полностью отрешился от суеты этого мира, созерцая закат, вздрогнул. И, наморщив лоб, строго спросил:
— Ты… э-э… действительно, думаешь, что я не знаю?
— Прости, отец, но… да.
Черты лица монаха разгладились, и в уголках его губ обозначилась улыбка:
— Ты меня насквозь видишь. Я и вправду не знаю. Человек не может всего знать, все знает только Господь Всемогущий.
— A-а… Так я и думала…
— А ты веришь в Бога, дитя мое?
— Да. Думаю, да. Ведь лучше верить, чем не верить, разве не так, отец мой?
— О да, вера в жизни — это начало, конец и средоточие человека. Наша жизнь не что иное, как дорога к Богу, дорога, которая для одного длиннее, для другого короче, но в конце нее неизбежно состоится встреча с Его Святейшеством Господом Богом. — В Амброзиусе проснулся проповедник. — Расскажу тебе, как это было со мной.
— Да, расскажи, — она придвинулась к нему.
— Э-э… да… — он поразмышлял, согласуется ли близость этого расцветшего девичьего тела с принятым им обетом целомудрия, и решил, что Филлис, пожалуй, чересчур холодна, чтобы возбуждать. — Так вот, ты, возможно, слышала, что я рос в городе Эрфурте в семье состоятельного купца. Ну юность моя мало чем отличалась от юности любого другого, кто никогда