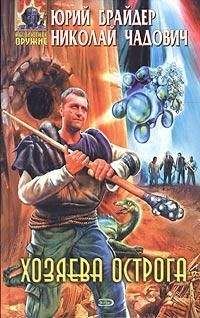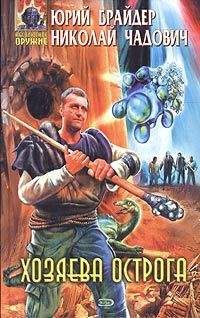Но вот опять встрепенулась Елизавета Васильевна. Мысль Александра Николаевича о Петерсоне оборвалась. Он насторожился. Рубановская повернула к нему голову и слабым голосом произнесла:
— Теперь всё… Скоро конец мучениям… Береги себя, детей, нашего Афонюшку…
Рубановская глубоко вздохнула, словно набирая в грудь как можно больше воздуха, чтобы легче было ей говорить.
— Душа моя грешна… — продолжала она. — Любовь к тебе оказалась сильнее веры в бога… Пусть не осуждают меня… Не отступай, Александр… Прости…
Елизавета Васильевна, обессилев, замолчала. Это была последняя вспышка её силы, последняя сознательная схватка жизни с надвигающейся смертью. Глаза её, вспыхнувшие на мгновение, погасли, и сразу же тело её окончательно расслабло.
— Говори, говори, Лизанька, — в отчаянии произнёс Радищев, и крупные слёзы скатились по его впалым и обросшим щекам.
Лицо Рубановской сделалось почти восковым. Губы её что-то шептали, но слов уже не было, о них можно было лишь догадываться. Елизавета Васильевна ещё дышала, но было заметно по всему, как жизнь оставляла её. Она собрала в себе последние силы и приоткрыла глаза, чтобы в последний раз взглянуть на Александра Николаевича, ради которого пошла на всё, отдала ему свою любовь, жизнь и теперь спокойно встречает смерть. Помутневшие, без блеска жизни глаза её так и остались открытыми.
Радищев в отчаянии застонал. Ни один мускул не дрогнул на лице Рубановской. Жизнь её погасла. Все мучения её, все горести, волнения и счастье, которого она так искала, к которому много лет тянулась её ненасытная душа, отошли, в вечность. Елизавете Васильевне было уже безразлично всё, что происходило в мире живых людей, — она была мертва.
Штабс-лекарь испуганно вздрогнул, услышав стон Радищева, и проснулся. Он догадался, что больная скончалась. Иоган Петерсон встал с дивана, открыл дверь и подошёл к кровати Рубановской, на груди которой лежала седая голова рыдавшего Александра Николаевича. Медик, по привычке, взял в свою руку холодное запястье, спокойно и раздельно, проговорил:
— Отмучилась… O, mein gott! — быстро перекрестился, широко зевнул и вышел из комнаты умершей.
5
Судьба словно испытывала твёрдость Радищева, проверяла стойкость его характера.
В эти тяжёлые дни от него не отходил Панкратий Платонович Сумароков. Забота о похоронах легла на его плечи. Сумарокову помогали какие-то молодые люди, совсем незнакомые Радищеву. Каждый из них старался сказать слово сердечного утешения, разделить с ним горе утраты, пособолезновать ему. Особенное сочувствие проявлял высокий, неизвестный ему мужчина. Сумароков обращался к нему чаще, чем к другим, называя его просто по имени — Николай.
Александр Николаевич в этой поддержке находил нужные ему силы, крепился. Он оплакивал Елизавету Васильевну по-мужски, сурово, чувствуя, что навсегда утрачена прочная опора его семьи, самая близкая его сердцу. Овдоветь во второй раз, в самые трудные годы его жизни, было очень тяжело. И всё же Радищев не был в таком отчаянии, в каком был после смерти первой жены Аннет — сестры покойной Елизаветы Васильевны, хотя на руках его снова осталось трое маленьких детей; среди них — Афанасий — грудной ребёнок.
Кроме забот, взятых по похоронам, Сумароков, остро чувствовавший своё одиночество после выхода замуж сестры, старался по возможности утешить Радищева.
— Мужайся, Александр Николаевич, мужайся…
— В другой раз мне такой удар! Тяжёлый рок словно преследует меня…
— Тебе важно противостоять року…
— Э-эх, Панкратий Платонович, оторван кусок живого сердца! Разве легко заглушить свежую боль?
— И всё же надо суметь перебороть её…
— Спасибо, мой товарищ, спасибо за утешение.
Горечь утраты не могла отодвинуть заботы о семье. Радищев спрашивал:
— Как дети, что с ними? Я их не видел сутки…
— Всё в порядке. За ними приглядывают…
А слёзы, крупные слёзы сочились из глаз, стекали по его огрубевшим, обветренным, небритым щекам, ввалившимся за эти бессонные ночи. И снова Радищев шёл во вторую комнату, где на составленных столах лежала Рубановская. В углу, у киота, мерцала лампада, слышался монотонный и заунывный голос причетника. В комнате стоял густой запах еловых ветвей, устилавших пол.
Александр Николаевич садился к изголовью покойницы, и какое-то тупое оцепенение охватывало его.
Вынос тела назначили на вторую половину дня. Как он одевался, как следовал за гробом до церкви, не помнил. Перед его глазами плыл гроб, плыла, слитая в единую движущуюся массу, похоронная процессия, плыл он, как в тумане. Радищев будто очнулся, когда церковные колокола разнесли над городом траурный звон при приближении похоронной процессии.
Священник в чёрной ризе долго служил панихиду, как казалось Радищеву, у которого от утомления подкашивались ноги. Когда он шёл, этой усталости не чувствовал, а немного постоял на одном месте и сразу ощутил крайнее утомление во всём теле. Александру Николаевичу хотелось на минутку присесть, передохнуть от всего, а священник всё ходил вокруг гроба и хор с клироса заглушал его тихий голос заупокойными песнопениями.
Церковь наполнилась синим ладанным дымом. Елизавета Васильевна, безразличная ко всему теперь, лежала в гробу, как живая, только уснувшая, с выражением горького упрёка на бледновосковом лице. Александр Николаевич глядел на это милое лицо, на безвозвратно закрывшиеся глаза, строго сомкнувшиеся тонкие губы и думал: скоро и его час смерти наступит. Вот так же и он будет неподвижно лежать в гробу, и всё, ради чего жил, боролся, что непоправимо искалечило его жизнь, отняло навсегда Лизаньку, обрушилось несчастьем сиротства на их детей — будет безразлично и ничего больше не нужно.
Что останется после него? Мучения, которые пережил, мысли, которые долгие годы вынашивал, идеалы, к которым стремился, борьба, которой жил, — всё умрёт враз вместе с ним и будет погребено с его телом?
«Нет, — сопротивлялся другой внутренний голос. — Что-то не так. Слишком мрачны и замогильны мысли. Конечно, не так! Пусть он умрёт, и вокруг него так же будет ходить священник и кадить кадилом, книга его, сожжённая и запрещённая правительством, в ничтожных экземплярах уцелевшая, будет жить. Он верил всегда, а здесь, перед лицом смерти дорогого ему существа, утвердился в мысли своей, что книга его жила в народе, ибо была написана о нём и для него. И небесное блаженство, о котором продолжал вторить священнику хор, обещая усопшей открыть врата для души в рай, Радищеву казалось умным, продуманным и красивым обманом. Он знал другое бессмертие души человека, призывал к нему, утверждал его.
С необыкновенной ясностью ему раскрылась здесь, у гроба Елизаветы Васильевны, под заунывное песнопение, глубина им же сказанных слов, что смерть и разрушение тела не суть его кончина, что человек по смерти жить может, воскреснет в жизнь новую. Он восторжествует…
Как бы ни неистовствовала смерть, приостанавливающая жизнь человека, он знал, что вместе с ним не будет умертвлена его борьба, она увенчается победой в будущем. Он должен был оставить о себе след потомкам прежде, чем умереть, он должен приобрести право на бессмертие! Так он не уйдёт из этой, полной противоречий и жестокой борьбы, жизни! Тяжёлая утрата и неожиданное горе, свалившиеся на него, он перенесёт, а жизнь в будущем залечит его раны, зарубцует и это горе.
Священник все кадил ладаном. Синий дым взвивался вверх к куполу, откуда лился свет апрельского дня сквозь разноцветные стёкла маленьких окон с крестообразными рамами.
Радищев, погружённый в свои думы, не уловил последних слов священника, но когда раздались скорбные слова «со святыми упокой», он как бы снова очнулся от тяжёлого забытья. Но тут же у него закружилась голова, на мгновение потемнело в глазах. Радищев, не видя, почувствовал, как кто-то быстро прикоснулся к нему и поддержал его дрожащей рукой. Он догадался по этому прикосновению — сзади его стоял Сумароков.
…Натали Сумарокова пришла в церковь с опозданием. Её потянуло сюда старое чувство безответной любви, жалость к человеку, который и сейчас остался дорог её сердцу.
Войдя в просторную церковь, где даже днём царил полумрак и где горящие свечи в массивных подсвечниках озаряли людские лица рассеянным бледным светом, она не сразу нашла Радищева. Увидев Александра Николаевича, Натали прошла дальше, чтобы со стороны наблюдать за ним. Он стоял у изголовья гроба измождённый, неузнаваемый, состарившийся от горя, сгорбившийся под тяжестью утраты. Натали испугалась его вида. Это был внешне другой человек, непохожий на того Радищева, которого она знала, прежде и запомнила по последней их встрече на берегу Иртыша. И всё же изнурённое лицо его с небритым подбородком и жёстко торчащими над большим лбом седыми волосами было красиво в своей печали и страдании.