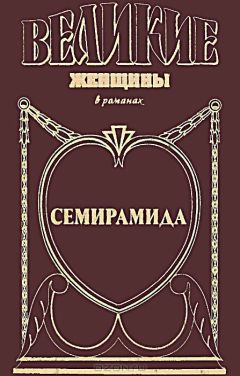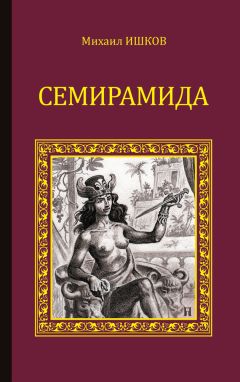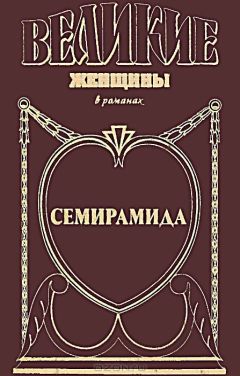Она встала и поднялась на крышу дома. Небо было занавешено тучами, легкий ветерок доносил с реки влажные дурманящие запахи и горечь костров, разведенных на сторожевых башнях.
Если противный старикашка действительно решил пожертвовать Нину, чтобы заткнуть рты знатным в городах, она может остаться и без мужа, и без места.
Хуже некуда!
Близился рассвет, в прогалах туч обнажилась светлеющая гладь небесного свода, но и там было пусто.
Ни единой звезды.
У кого просить совета?
Может, стоит попытаться проникнуть к царю и поговорить с ним? Салманасар всегда привечал ее, относился к ней доброжелательно. Он выслушает, он умерит гнев. Он примет в расчет, что, погубив Нину, он осиротит ее детей, лишит ее радости. Она напомнит, что кроме Нинурты некому командовать конницей.
Разум подсказал — это детские надежды.
Ей не с чем идти к царю.
Эта мысль окончательно лишила Шами бодрости духа, и женщина расплакалась. Она вдруг почувствовала себя жертвой, приведенной на царский суд и оказавшейся под наведенным на нее царским пальцем. Что ей оставалось? Только, затаив дыхание, ждать, в какую сторону шевельнется корявый старческий ноготь — вниз и в сторону или, может, царь согнет палец в суставчике и пригласит подойти поближе.
У досужих рассуждений есть только одно преимущество — они редко сбываются.
С чем идти к царю?
На спасение надежды не было. Завтра царь царей отдаст мужа на расправу людям Шурдана. Это будет конец длинной и захватывающей истории о вавилонской царевне и сыне визиря.
Ей вспомнился Ишпакай, его добрейшее, сморщенное годами личико, ласковый голос. Вспомнилась их первая встреча, когда он, многоопытный и услужливый, встретил ее рассказом о приключениях бедного дровосека, которого звали Али-Бабайя. Теперь пришел черед сказке о сыне визиря и вавилонской принцессе.
Ишпакай начал бы так:
— Знай, о, многомудрая, был в древние времена визирь, а у визиря был племянник, который любил веселье, прогулки, охоту и ловлю. И вот однажды отправился юноша на охоту. День скакал, другой — ни птицы, ни дикого зверя, ни ползучего гада не встретил. Пусто было в пустыне.
На третий день юноша заметил облачко пыли. Он направился в ту сторону и увидел караван, медленно бредущий в сторону Дамаска…
Жаль не довезли, с горечью решила Шаммурамат. Жизнь с могучим и благородным Бен-Хададом, заботы о беспомощном дурачке, его сыне, представлялись ей меньшим злом по сравнению с муками, которые придется ей и ее детям отведать завтра и тем сухим ломтем, которым придется питаться до самого последнего в жизни дня, а день тот был не за горами.
Припомнилась Гула. Это воспоминание разбудило вопль души — боги, за что?!
Шами с трудом взяла себя в руки. Сердце с нескрываемой горечью отозвалось на мудрость, высказанную Сарсехимом — справедливость есть дело смертных.
Стоит ли обращаться к небожителям, если страдания ничтожных служит им забавой. Если взывать, то разве что к тому единственному, который не побоялся, получив удар в правое ухо, подставить левое.
В этот момент тучи сдвинулись, и в образовавшемся прогале вспыхнула утренняя звезда. Шами, укоряя себя за неверие, вскинула руки и обратилась к своей покровительнице.
— К тебе взываю, Повелительница львов, Ирнани — победительница, Белет — владычица…
Ее внимание привлек частый решительный стук по дереву. Шами встрепенулась, прислушалась. Стук повторился, теперь он был погромче. Кто-то пытался проникнуть в дом через задние ворота, выходившие в проулок и служившие для доставки в усадьбу хвороста, провизии и прочих необходимых в хозяйстве припасов. Проулок, ведущий к дому Шами, чуть заворачивал, так что с главной улицы не было видно, что доставляют в усадьбу или кто заходит в дом.
На крышу, запыхавшись, взобралась Габрия и сообщила.
— Стучат.
— Кто стучит? — рассердилась госпожа. — Говори толком.
Однако служанка приложила палец к губам, начала отступать к лестнице и, сделав таинственное лицо, поманила госпожу за собой.
Шами двинулась за ней следом.
Габрия торопливо вела госпожу через хозяйственный двор. Шами, чтобы успеть за служанкой, пришлось перейти на бег.
Возле створок топтались вооруженные ножами рабы. Заметив хозяйку, они наперебой стали докладывать, что за воротами конные. Говорят, что из Ашшура, а там кто его знает. Шами подошла ближе, глянула в проделанное тайное отверстие.
Действительно, конные…
Это же Набай, а с ним Буря!
Она вполголоса выкрикнула.
— Открывайте ворота!
Конные, не дожидаясь, пока створки полностью разойдутся, галопом промчались на двор. Здесь начали спешиваться. Буря, первым соскочивший на землю, указал на садовую беседку и шепотом распорядился, чтобы туда отвели двух лошадей, между которыми был подвешен какой-то объемистый и, по-видимому, тяжелый груз.
Кто-то, слишком усердный из домашних слуг, решил зажечь факел, но Буря прикрикнул на него. Слуга возмутился — кто ты такой, чтобы здесь распоряжаться?!
Его осадила подбежавшая Шами. Она молча, с силой повернула громадного скифа к себе, приблизила лицо, заглянула в глаза.
— Ну?!
— Все исполнили, госпожа, — шепнул Буря.
— Это что? — Шами кивком указала на груз.
— Негодяй, посмевший изменить дому Иблу.
Женщина разрыдалась. Габрия подхватила ее под локоть, попыталась увести, однако Шами тут же пришла в себя.
Она приказала — Покажите негодяя!
Сверток уложили на каменные плиты, которыми был выстелен двор, и Набай ногами принялся разворачивать его. Сначала показались босые грязные ноги.
Набай перепугался.
— Прости, госпожа.
— С другой стороны!
Наконец обнажилось лицо. Один глаз — пустой — сквозь балки галереи бессмысленно смотрел в небо. Другой, полноценный, уставился на женщину. Чего во взгляде было больше — страха или ненависти, сказать трудно. Шами, удостоверившись, что пойман тот, за кем охотились, приказала.
— В подвал негодяя.
Буря понимающе кивнул и приказал рабам оттащить Ушезуба в дальний угол двора, где находился вход в подвал.
Шами, Буря и Набай направились вслед за рабами.
— Документы? — спросила женщина.
— Все в целостности и сохранности.
В повале Буря пригрозил полностью обнаженному негодяю нестерпимыми пытками и многозначительно глянул в сторону Шами, как бы намекая — теперь его яйца в твоей власти, но Шами промолчала. Затем она поднялась и, направляясь к выходу, приказала Буре и Набаю выяснить, кому Ушезуб должен был передать документы.
На прощание предупредила.
— Поберегитесь отправлять его к судьбе. Можете ломать руки, ноги, но только сохраните дыхание. Он нужен живой и только живой. Если у него хватит сил молчать здесь, вряд ли он сохранит мужество в царской пыточной.
Услышав последние слова, Ушезуб, обмякший, вздрагивающий от страха, взвыл волком.
В доме при свече Шаммурамат ознакомилась с письмами, которые вез в столицу отказавшийся говорить негодяй. Впрочем, его признания уже не требовалось. Послания, обнаруженные у гонца, свидетельствовали не столько об измене Шурдана и тех, кто сплотился вокруг него, сколько о том, что все решено и подготовлено к началу мятежа. Дело было за малым, и это малое свершилось — вавилонский полководец Бау — ах — иддин давал письменное обязательство примкнуть к мятежникам сразу, как только царский сын даст сигнал к выступлению.
Бау писал.
«…Закир на нашей стороне. Он готов хоть завтра выступить с войском и ударить по врагу с юга. О том же сообщает и эламский правитель Унташ».
Дальше читать не было сил, строчки расплывались перед глазами. Стоит только показать это письмо старикашке, тут же последует неотвратимое возмездие.
Она разрыдалась — без всякого стеснения, от души, с всхлипами и воплями, какие могут позволить сильные женщины, только оставшись наедине с собой. Никогда ранее цена власти и цена жизни не являлись ей с такой обжигающей пронзительностью. Боль в сердце стала нестерпима. Прикинула, может, Бау наврал? Может, грубиян и нахал взял на себя слишком много, но и в таком случае отцу не позавидуешь.
Уничтожить письмо?
Перед ее глазами промелькнуло скупое на ласки и щедрое на обиды детство. Отец возвышался над семьей как бездушный истукан. Он был равнодушен к родным детям, среди которых почему-то выживали только девочки. Младенцы мужского пола быстро отправлялись к судьбе. Многие во дворце не без оснований подозревали в этом злодейском поветрии Амти — бабу.
Закир оставался равнодушен даже к смертям будущих наследников — этой наиважнейшей стороне жизни правителя. Впрочем, также он относился к Вавилону, к его жителям, к предначертанной судьбе. Он жил и царствовал как бы во сне и просыпался только тогда, когда в его руки попадалась каллиграфически исписанная глиняная табличка или новая поэма. Его непробиваемая бесчувственность вызывалась, видимо, тем, что под покровительством Ассирии ему было бесполезно рассчитывать на спокойную старость, на свободный выбор наследника. Когда жизнь ежедневно грозила смертью, было все равно, сколько у тебя детей и какого они пола.