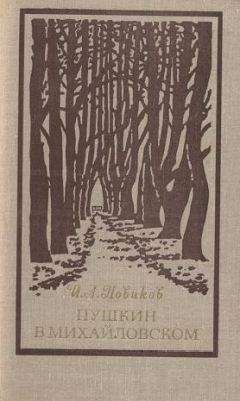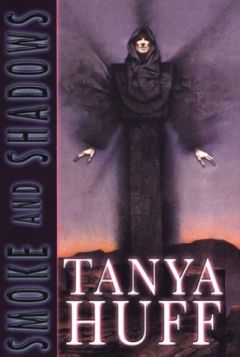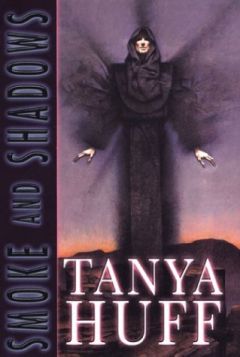И чем ближе был Псков и его старина, такая живая ныне для Пушкина, тем более он уходил в стихию своего «Годунова».
Приехал он к концу дня и, только умывшись и наскоро закусив, никуда не заходя, просто пошел побродить по этим многое видавшим на своем веку улицам, обсаженным щедро деревьями, среди которых кое-где попадались и тополя, смутно напоминавшие юг. Небольшие дома полупрятались в вечерних садах; между старыми плитами второй раз зацвела глухая крапива. На улицах круглолицые девушки прогуливались с приземистыми купчиками в картузах. Шел крутой говорок.
Пушкин прошел через рынок, уже опустевший; между ларьками бродили собаки, в кучах отбросов вынюхивая себе добычу. Мальчишки пугали галок, кружившихся стаями; птицы выглядывали, где бы им сесть. От берега Псковы несло запахом тины и рыбы: там исстари был расположен огромный рыбный базар, а в башне, через которую шел вход из Запсковья, такую же рыбью «снедь блюли собакам на ядь». Пушкин живо представил себе это множество псов, охранявших в Детинце купеческие склады товаров, общественные амбары с хлебом, на случай отсиживания от неприятеля, и погреба с пороховым «зельем». Впрочем, отсиживались там и со скотом, и со всем прочим имуществом… Такие же склады были и в подземельях изящных церквей с их легкими звонницами, родимыми сестрами вязёмской, памятной с детства, и во многих пристройках, где в старину бывали и кабаки.
После долгого сидения в тележке (коляска, увы, укатила в столицу с родителями!) ему было приятно поразмять ноги, и всю эту далекую старину он вдыхал полною грудью. Да, когда-то кипела здесь жизнь, когда-то бывал и гражданский раскол на старой Руси! Для Пушкина книги и летописи вновь оживали. Назад тому три с половиною века канцелярист Стефана Батория записал для себя: «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж». Один иностранец в то время насчитывал в городе свыше 40000 домов, а «Писцовые книги» числили до 1300 одних лавок с товарами! Через город катились литовские войны, ливонские войны; крестьяне и черные городские люди вскипали, как вода на огне… Тут был и свой самозванец — Исидор, беглый дьякон из Новгорода… А история хлебного бунта, когда так потрепали помещиков!.. Да, пожалуй, поэтам тогда, если б и были такие, тоже круто пришлось бы, но за них неплохо работали юродивые! Недаром все в том же письме сообщал ему Вяземский: «Жуковский уверяет, что и тебе надобно выехать в лице юродивого». Что же, он и без этого совета в «Борисе» уже «выезжал»…
Псков сейчас мирен и тих. Только шаги опального гостя звучат одиноко и глухо. Ко всенощной рано еще, и будочник из-под алебарды пытливо скосил один глаз на проходившего бойко незнакомого черного господина. Но Пушкин весело мигнул ему — именно как знакомцу — и вступил под широкую арку. Пахнуло простором и теснотою кремля.
Пушкин бывал уже здесь. Но в этот приезд, наступающим вечером, свободный еще от людей, и от карт, и от разговоров с лекарями, и от официальных визитов, он особенно полно дышал этим живым для него городом. Он не жалел, что приехал сюда. Ни Керн, ни друзья больше его не тревожили. Прохлада и тишина пребывали сейчас в этих полуразрушенных стенах, однако же строго хранивших богатство событий, некогда здесь протекавших, движение толп и кипенье страстей: так точно и книга в малом объеме своем заключает целый законченный мир,
Служба в соборе не начиналась, но вход был открыт, и Пушкин вошел. Дымная полумгла подымалась в высь, покоящуюся на огромных колоннах. Пахло воском и пылью, маслом и старыми тканями. Пушкин был рад, что один. Старый меч итальянской работы, именуемый мечом князя Всеволода, меч над гробницей Довмонта, икона, изображающая помощь, пришедшую от богородицы Пскову, осажденному Стефаном Баторием, — все это говорило о временах, исполненных дыханья легенд, гула истории.
Эта икона висела в правом приделе, и Пушкин, никем не стесняемый, ее подробно разглядывал. Там был изображен весь город Псков, с церквами, и стенами, и укреплениями. Поляки с алыми знаменами и поднятыми черными саблями шли на приступ; пушки навстречу им изрыгали огонь; лодки под парусами, и те принимали участие в битве. Внизу, неподалеку, — палатки Батория; наверху заседал вышний совет; Покровская башня охранялась сонмом всех псковских святых. Картина была и наивна, и исполнена жизни.
Когда он выходил, служба должна была уже вот-вот и начаться: духовенство проследовало, и старушки в салопах расстилали уже половички на холодные плиты, а убогая и нищая братия по лесенке выстраивалась по обе стороны входа. Пушкин быстро сошел и почти пробежал вдоль остатков правой стены, перепрыгивая через провалы пороховых погребов, к самому мысу кремля. Там, у слияния Псковы с Великой, через пролеты старой разрушенной башни (бегло припомнился ему и Вальтер Скотт) он долго, как в окна, глядел то на Завеличье, то на Запсковье. Красавица церковь Успенско-Пароменская с чудесною звонницей мягко гляделась в закатные желтые воды Великой; подальше Ивановский женский монастырь утопал в золоте осенней листвы; а на другом берегу маячил высокий шпиль Снетогорского архиерейского монастыря.
Запсковье попроще: церковки там похожи на незатейливые свежевыпеченные пряники, немного с сыринкой. Вся Пскова усеяна бревнами; по ним, как жуки-водомеры, смело, легко шныряли мальчишки. Рыбаки перекликались, складывая ладони у рта, гулко: «Гу-гу-у!» Из расщелины камня тянулся к просвету тощий цветок колокольчика, голубые лепестки его изредка вздрагивали, как бы от прохлады.
Уходить не хотелось. Так он когда-то просидел целую ночь в Аккермане, на прибрежной башне Днестровского лимана, любуясь через него отдаленным, но видимым Овидиополем. Оттуда беседовал он с Овидиевою тенью. Тени иные теперь его окружали в кремле… Так и сейчас встретил он вечер, и ночь, и городские огни, звезды на небе. Отрадно было ему это полное его одиночество не дома и не в постели…
Заслышав призывный реденький звон к ранней обедне, которому откликнулись звоны в десятках церквей, Пушкин открыл отдохнувшие веки и потянулся. Он не беседовал нынче с Овидием, но он помянул свою молодость этою вольной ночевкой.
Утро едва занималось, было прохладно. Он осторожно, пробуя камни, спустился к реке и, наклонясь, поплескал себе на лицо. Так он миновал и ворота и будочника, который, быть может, вздремнув, вспомнил только бекешу его да одни бакенбарды над ней (чего во сне не привидится!) и, перекрестившись, суеверно отплюнулся.
В гостинице встретил его сонный швейцар, должно быть ругнувшийся про себя на господина сочинителя, который не иначе как до рассвета резался в карты, а не то и кутил в каком-нибудь притоне на Запсковье.
Но Пушкин не лег; после столь короткого сна он чувствовал себя необыкновенно свежо и легко. Он не спеша переоделся и вымылся, потом, с промежутками, стал добиваться слуги, ничуть не сердясь, что на оклики не появлялся никто. В конце концов жизнь все-таки заворошилась, он выпил и чаю, а еще погодя и позавтракал.
Тут, в полупустой общей столовой, ему удалось разговориться с заезжим и, кажется, знающим лекарем. Он ничуть не пугал Пушкина ни операцией и никакими другими лечебными неприятностями, остерегая всего лишь от излишних движений: не ездить верхом и не ходить много пешком, и все в этом роде. Пушкин слушал в пол-уха. Ему важно было одно: чтобы было что сказать губернатору.
Близко к полудню снова он вышел на улицу и кликнул извозчика. Солнечный день понемногу разогревался. Пушкин не чувствовал ни малейшей усталости. Он был весел и бодр и совершенно здоров. Эта ночевка на воздухе только его укрепила.
— Так к губернатору?
— Да, к губернатору! Да кой черт к губернатору, хотя б и к царю! Не все ли равно? Только вези.
Кучер испуганно зацокал на лошадь, задвигал вожжами, но к странному седоку больше не оборачивался.
Адеркас редкого посетителя принял с изысканной вежливостью. Он сам имел тайную склонность к стихам и не прочь был их почитать и услышать совет, а быть может — и похвалу: кое-что, по его скромному мнению, у него выходило вовсе не плохо. Другие очередные посетители ждали, когда ж наконец выйдет сей дворянин, приглашенный тотчас, как о нем доложили. А в кабинете меж тем очень скоро стало похоже на то, что не губернатор принимал ссыльного поэта, а Пушкин у себя принимал губернатора, заехавшего к нему с визитом. Провинциальному администратору этому посетитель его весьма импонировал — и не одною только своей поэтической славой, но, пожалуй, и всею фигурой, французской легкою речью и общею непринужденностью. Да и кроме того, как-никак — например, государь: вспоминает ли он Адеркаса?.. Смешно и подумать… А Пушкин ему, может быть, снится каждую ночь. Дьявольская разница!
— Так, собственно, что ж вы хотите?
— Я сказывал вам, что лекари здесь за операцию никак не берутся… Сколько я спрашивал! А операция между тем неизбежна. Необходимо в столицу, а может быть — и в чужие края.