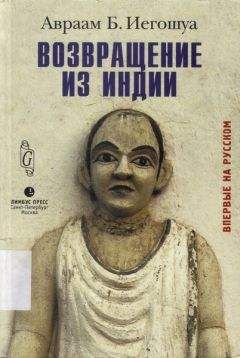И, несмотря на полную неопытность в судейских делах, рабби Иосефу бен-Калонимусу, с помощью пылко-витиеватого, но подробного перевода рава Эльбаза, удается понять, что этот смуглый, сильный человек, прибывший с другого края земли, намерен здесь, в Вормайсе, возобновить все разбирательство с самого начала. Ценой раскрытия давней семейной тайны он хочет защитить не только свой собственный двойной брак, но и двоеженство вообще, которое атаковала новая жена Абулафии, самонадеянно и непрошено присвоившая себе право говорить от имени его первой, лишившей себя жизни жены, якобы с целью отомстить за эту несчастную женщину. И только теперь, к удивлению всех присутствующих, выясняется, что согласие Бен-Атара взвалить на себя «сухопутную добавку» и отправиться на дополнительный суд в Рейнскую землю было вызвано вовсе не отчаянием Абулафии или страстным стремлением рава Эльбаза повторить свою замечательную речь, но прежде и более всего — его собственным желанием изобличить и опровергнуть, причем именно в родном городе своей противницы, те клеветнические обвинении, которые новая жена высказала перед судом на винодельне Виль-Жуиф.
Ибо кто, как не он, Бен-Атар, может свидетельствовать об истинных намерениях той грешной женщины? Ведь в тот горький и горестный день, когда несчастная пришла в его лавку тканей, чтобы оставить своего младенца на попечение Абулафии, а самой, ненадолго освободившись, сходить на рынок и поискать на лотках кочевников амулет, который принес бы ей утешение или благословение Господне, она не сразу ушла на берег моря с купленным на рынке удилищем, как думают все, а вначале вернулась в лавку, чтобы забрать своего ребенка. Но обнаружив, что Абулафия не смог вынести присутствия своей порченой дочери даже самое короткое время и бросил ее, одну, на рулонах ткани, под тем предлогом, что его ждут на «минхе» у Бен-Гиата, она впала в такое отчаяние и печаль, что, не сдержавшись, сорвала с себя чадру, чтобы на глазах у любимого дяди осушить свои слезы. Так вот, эта молодая красивая женщина не только не страшилась, что ей придется делить ложе своего мужа с другой женой, но напротив — в те свои последние часы сама предложила себя во вторые жены дяде Бен-Атару, чтобы тем самым помочь своему мужу насовсем избавиться от нее, потому что боялась, что родит ему еще одного порченого ребенка. Но Бен-Атар доподлинно знал, что любовь Абулафии никогда ее не покинет, и потому со всей мягкостью и осторожностью отклонил ее странное предложение, а чтобы успокоить несчастную, предложил, что сам присмотрит за ее «заговоренной» дочкой, пока Абулафия не вернется с молитвы, она же тем временем может поискать себе амулет получше, — ибо как он мог подумать, что вместо того, чтобы снова отправиться на рынок, она повернет прямиком к городским воротам и станет искать утешения в морской пучине?
И когда североафриканский купец роняет последние слова своего признания, они падают на пол вормайсской синагоги, словно бы превращаясь в маленьких ядовитых змей, так что не только отстранившая и отстранившаяся, но и ее рассудительный брат в ужасе отшатываются от них. И лишь Абулафия, который только сейчас и здесь, в далеких глубинах рейнских болот, впервые узнал эту страшную правду, продолжает стоять, как окаменевший, разве что губы его сильно бледнеют. А смешавшийся судья, не уверенный, действительно ли то, что он понял, — это именно то, что было произнесено, видит лишь, что слова истца парализовали всех, находящихся в маленьком судебном помещении, и поэтому беспомощно поднимается со своего места и направляется к занавесу, словно намереваясь спросить совета у своей благочестивой общины. Но рав Эльбаз торопится предотвратить это намерение и легким, хотя и уважительным прикосновением старается вернуть этому растерявшемуся, но в его глазах по-прежнему подходящему человеку ту уверенность, которая позволит ему, Эльбазу, рассчитывать, что здесь, в Вормайсе, приговор первого суда будет подкреплен.
И мягкой силы этого прикосновения действительно оказывается достаточно, чтобы рабби Иосеф бен-Калонимус передумал и вернулся на место. И тут он, ранее опасавшийся даже искоса глянуть на женщину, к которой его когда-то не допустили, впервые поворачивается в ее сторону и видит на ее лице чуть заметную дрожь тревоги, порожденной странным молчанием и оцепенением ее мужа. Тем молчанием и оцепенением, которые рав Эльбаз тут же решает использовать, чтобы ошеломить судью и тем самым направить его мысль по совершенно новому руслу. И хотя рав по-прежнему испытывает сильнейшее желание повторить ту замечательную речь, которую он произнес в винодельне, в присутствии густобородого купца из Эрец Исраэль, чье отсутствие он сейчас болезненно ощущает, он понимает, что синагога ревностной и благочестивой общины Вормайсы — не самое подходящее место для речей в защиту непокорного, упрямого мужского воображения, в котором, вопреки любым и всяким постановлениям мудрецов, всегда будет жить образ второй жены. Поэтому он меняет тактику и неожиданно устремляет свою мысль к отдаленным горизонтам, а чтобы сделать эту даль зримой и осязаемой, подзывает к себе обоих моряков-исмаилитов и черного язычника, которые все это время продолжают молча стоять рядом с Ковчегом еврейского Бога, ничего не понимая в происходящем.
Ибо если, несмотря ни на что, рассуждает, как бы про себя, рав Эльбаз, существуют все же на свете такие истовые в своей вере евреи, как те, что в напряженном молчании стоят сейчас за занавесом — евреи, воля которых настолько сильна, что способна полностью изгнать из воображения образ второй жены, вплоть до самых кончиков пальцев на ее ногах, — то эту необыкновенную силу воли дает им, видимо, то, что они горят желанием освободить в своем воображении почетное место для образа возлюбленного спасителя нашего, Царя-Мессии, который не нуждается в тысяче лет, чтобы прийти к своему народу, а требует лишь исполнения всем народом всех заповедей Торы. Но видите ли, начинает рав с жаром развивать эту свою новую мысль, обращаясь вроде бы к сидящему против него взволнованному судье, но, судя по громкости голоса, явно желая, чтобы его услышали и за занавесом, где община, затаив дыхание, ловит каждое слово, видите ли, уважаемые учителя и собратья, священное вормайсское сообщество, ведь еще немного, и мы все до единого вернемся в Страну Израиля, страну, текущую молоком и медом, где нет бульканья болот и кваканья лягушек, а струятся прозрачные ручьи и звучат соловьиные трели. И в те последние дни, в конце времен, там, в Земле Израиля, соберутся не только такие далекие евреи, как вы, но также, как предписано и обещано, все прочие, пришедшие в этот мир народы, тоже жаждущие Божьего слова. И первыми среди них будут, разумеется, наши ближайшие соседи, магометане. И тогда эти люди, желая угодить избранным и спасенным евреям, которые почитают одну-единственную жену, как если бы она была самим Господом Богом, могут подумать, что им тоже следует прогнать от себя лишних жен, вторых, и третьих, и четвертых.
С этими словами рав подходит совсем близко к трем крепким исмаилитам, которых местные евреи уже успели нарядить в черные накидки и заостренные шапки, что, впрочем, нисколько не изменило их суть и не смягчило их душу, разве что еще более подчеркнуло их всегдашний дикий вид, — и голосом, в который вплетается нотка жалости, спрашивает и тут же сам себе отвечает на свой вопрос: так подобает ли нам, евреям, омрачать радость нашего спасения печалью, болью и обидой столь многих исмаилитских женщин, которые внезапно окажутся в безутешном одиночестве? Но, с другой стороны, сумеем ли мы убедить наших добрых соседей, жаждущих присоединиться к еврейской геуле, не слишком усердствовать в этих попытках изменить свою натуру, если сами не покажем им, что на свете есть и другие евреи, вполне благочестивые и верно следующие Закону, но, как и они, исмаилиты, имеющие двух жен, что, однако, нисколько не уменьшает их веру и праведность в глазах остальных?
И тут занавес слегка приподымается. Это маленький сын рава Эльбаза, услышав издали громкий голос отца, осторожно приподымает одно из крыльев красного занавеса и, тихонько войдя в помещение суда, останавливается между своим гостеприимным хозяином, рабби Иосефом бен-Калонимусом, и родным отцом, равом Эльбазом, как будто явился их примирить. И рав Эльбаз с изумлением глядит на сына, сдвинувшего свою маленькую заостренную шапку на новый, франтоватый манер, потом переводит взгляд на судью, на лице которого при виде мальчика пробегает легкая улыбка, и думает с надеждой: быть может, это знак, что пора прекратить всякие речи и попытаться извлечь из ласковой улыбки этого ашкеназского судьи такой просвещенный и исполненный терпимости приговор, который позволит естественно сложившемуся товариществу существовать и далее — как в силу прежнего братства, так и в преддверии грядущего спасения?