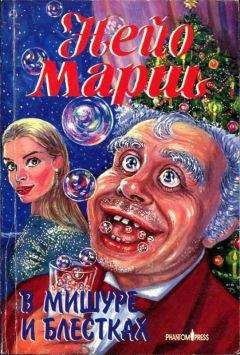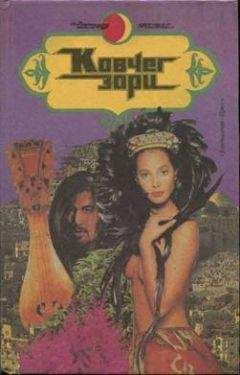— Ассаламу ва алейкум! — поклонился Омар. Не ответила, не шелохнулась. Будто спит. Или привыкает к его присутствию. Или обдумывает под покрывалом какую-нибудь каверзу, готовя ему внезапный удар.
Через некоторое время Омар услыхал ее глухой, гнусавый голос:
— Омар, я теперь не царица. Я теперь никто. Пожалей и вылечи меня.
— Пусть ее величество снимет покрывало.
— Нет! Я… стесняюсь.
Теперь она стесняется.
— Как же я, не посмотрев, смогу лечить ее величество? Зохре, низко опустив голову, с тяжким вздохом стянула накидку. Омар чуть не закричал от ужаса, увидев белые проплешины на ее темени.
— Подними голову!
Страшное зрелище. Лицо в струпьях. Ни бровей, ни ресниц. Шея охвачена белыми пятнами, образующими как бы кружевной воротник. "Ожерелье Венеры". Кончик носа безобразно приподнят, переносица уже начинает западать.
— Сердце болит, и мозг, и печень, — зарыдала Зохре. — Спаси меня, Омар! Все сокровища свои тебе отдам…
Поздно, милая! Поздно. Теперь тебя может вылечить лишь ангел смерти Азраил. Но разве скажешь ей об этом? Нельзя лишать человека последней надежды.
"Но почему? — взбунтовалось все в нем. — Разве она не знала, на какой вступает путь? Знала. Но не хотела знать. Думала, что обойдется. Ошалела от излишней свободы и легко доступных наслаждений. Она красивая женщина, она царица — ей все простится. Нет, ничего не прощается на земле!"
Он ничего не мог тут сделать. Так далеко зашла болезнь. Никакой на свете врач ее уже не спасет. Даже сам аллах, лучший из врачевателей. Но и без помощи Омар не хотел оставить Зохре. А чем ей поможешь?
— Хотелось бы знать, — бросил он царице намек, торопясь уйти, — чем был отравлен твой муж, султан Меликшах? Умер сразу, легко, без долгих мучений.
— Будь ты проклят, — прогнусавила Зохре, вновь надевая чадру.
***
На тринадцатый день язвы у хворых стали подсыхать, на тридцатый с них уже отпадали корки. На месте гнойничков остались глубокие рябины, особенно у Санджара.
— Зато, — утешал Омар выздоравливающих, — вы навсегда избавились от оспы. Теперь уж ею никогда не заболеете. Все вокруг будут лежать и стонать, но к вам зараза больше не пристанет.
— Слава аллаху! — счастливо вздыхали Баркъярук и Мохамед, радуясь, что все их страдания — позади, бог с ней, с красотой, царский сын в любом обличье красив, главное — они остались в живых.
Лишь Санджар хлестал Омара жгучими, совсем не подетски злобными взглядами, повергая его в тревожное недоумение.
"Что это с ним? Бедняга, — думал Омар снисходительно. — Он еще не пришел в себя. Наверное, сердится за то, что я велел привязать ему руки к телу. Гнойники нестерпимо чесались. Ничего, скоро все забудет".
Увы, не забудет. Вот если б Омар уморил Баркъярука и Мохамеда и спас одного Санджара, и тот, как единственный наследник Меликшаха, воссел восьми лет на престол…
В те же дни умерла, подавившись отчаянным собственным криком, царица Зохре, и никто не горевал о ней.
…Мертвые успокоились, а живые, едва очнувшись от смертельного страха, опять — за свою недобрую возню.
"Эмир поэтов" Амид Камали, самодовольный, пухлый, на диво округлившийся на царских хлебах, украдкой шепнул Омару:
— Вас желает видеть его светлость Муаид аль-Мульк. Только так, чтоб Изз аль-Мульк не узнал…
Муаид, другой сын покойного Низама аль-Мулька, встретился с Омаром на задворках, в темной сторожке, под охраной верных людей.
— Много ли добра видел учитель от брата нашего Изза аль-Мулька? — сказал напрямик он Омару.
При слабом колеблющемся пламени одинокой свечи лицо его казалось вороватым, как у конокрада, ползущего ночью к пастушьему костру.
— Н-ну… не так, чтобы много, — ответил Омар осторожно, не зная, чего от него хотят.
— Осмелюсь сказать — нисколько! — жестко уточнил Муаид. — Разве он не предал вас два года назад? Человек с гордым сердцем не должен это терпеть. Самый раз напомнить о себе. Знайте, песенка нашего брата спета. Беспутной Зохре больше нет, ее сына Махмуда — тоже, мир их праху. Султаном, по воле аллаха, будет провозглашен Баркъярук, законный царский наследник. И визирем при нем должен быть кто? — Муаид говорил задыхаясь, видать, он с трудом соблюдал нужную благопристойность в словах. Тогда как ему хотелось просто схватить Омара за шиворот и приказать: "Делай то, а того не делай, иначе шею сверну". — Так что, — голос его зазвучал угрожающе, — не вздумайте кричать на Совете знатных за брата нашего Изза, извольте кричать за самого достойного из наследников нашего великого отца. Разумеете? Если не хотите прогадать.
Э, как очи боятся прогадать! Никакой урок им не впрок. Государство будет доживать последние минуты, секунды — все равно, вцепившись друг Другу в глотки в кровавой грызне за власть, не разомкнут они скрюченных пальцев. Так и рухнут в глубь преисподней вместе с вдрызг развалившимся царством.
И только сейчас осенила Омара догадка, почему он не может жить среди них.
Собственно, он давно уже знал, почему. Но знал, так сказать изнутри, больше чувством, чем рассудком. Видел их и себя снизу, а не сверху. Теперь его мысли об отношениях с дворцом приобрели некую стройность.
Человек из народа, из самых его глубин, он относился ко всем — пастухам и царям, как равным себе, говорил со всеми на одном языке, никого не унижая и никому не угождая, отличая людей лишь по уму и умению.
Но эти дети — сперва царевичи, а потом уже дети. Сами по себе, как дети, как люди, они никому не нужны. Они — приложение к своему званию. Как любой обыватель-стяжатель всего лишь приложение к собственному имени. Но как царевичи — о, сколько надежд скольких людей связано с ними!
Поскольку все трое — от разных матерей, то за каждым царевичем — род его матери, его дяди, тети, двоюродные братья и сестры, толпа жадных родичей, их воинов, слуг, прихлебателей, целая клика, что спит и видит во сне золото, бархат, почет и почести. И всем им надо угождать, если не хочешь нажить в них врагов.
Изз аль-Мульк, Муаид аль-Мульк — дети царедворца. искушённого в интригах. Они — как хищные рыбы в мутной воде, эта вода — их среда. Если же Омар вновь нырнет в грязный поток, он очень скоро погибнет. Он чужой среди них, и вечно будет для них чужим.
— Ни за кого я не стану кричать, — хмуро сказал Омар. — И на Совет не пойду…
— Что ты?! Опомнись. — С Муаида тут же слетела спесь. — Теперь ты — видный у нас человек. Жизнь и смерть царевичей держал в своих руках. Отныне слово твое имеет огромный вес.
"Эмир поэтов" — сладостно:
— Воистину!
Вот у кого тонкий нюх — сразу учуял, откуда и куда дует ветер, кого бросить, к кому пристать.
— Поможешь-озолочу, — пообещал Муаид.
— До первой встряски, — усмехнулся Омар. — Затем — обдерешь. Слушай, самый достойный из наследников великого Низама аль-Мулька. У тебя есть еще брат, Тадж аль-Мульк. И двоюродный брат, Шихаб уль-Ислам. И все вы вправе метить на эту должность. Верно?
— Верно, — потемнел Муаид.
— Так вот, знайте, мне совершенно все равно, кто из вас будет визирем. Совершенно! Я человек незнатный. Лекарь, поэт и прочее. Заболеешь — смогу помочь. Могу по звездам предсказать твою судьбу, — я с этим замечательно справляюсь, спроси у нишапурского купца Музафара. Могу на дутаре тебе сыграть. Ячменной водкой угостить. А в остальном… не впутывайте меня в ваши дела. Я еду домой, и Нишапур.
Он внезапно и остро, как боль в сердце, ощутил тоску по своему пустому, но чистому дому, по его, лишь ему понятному, доброму уюту, тишине, по своему спокойному, одухотворенно-богатому одиночеству.
Быть сановным и важным не стоит труда.
Не нужны всемогущему господу-богу
Ни усы твои, друг, ни моя борода!
— И впрямь… тебе лучше уехать, — проворчал Муаид после долгого угрюмого молчания.
— И впрямь! — возмущенно согласился с ним "эмир поэтов".
— Станешь визирем, — попросил Омар, уходя, — скажи этим, в Нишапуре, чтобы оставили меня в покое.
— Скажу.
"Так я тебя и оставил в покое! Я за тобой пригляжу бунтарь". Слава богу, он хоть знал, что Омар не побежит на него доносить, — и не стал его резать, душить, травить в этой укромной сторожке…
Омар баснословно разбогател. Три тысячи, по уговору, дал поэту-врачу Изз аль-Мульк, еще не подозревавший. что звезда его, как визиря, уже закатилась. А то бы, наверно, не дал. По две тысячи — Баркъярук и Мохамед. тысячу, скрепя сердце, — маленький Санджар. Две, на всякий случай, — Муаид аль-Мульк.
Даже "эмир поэтов", глубоко довольный тем, что Омар уезжает и, значит, не будет оттеснять его при дворе, предложил, на радостях, пятьсот динаров, — но Омар не взял их у него.
Обменяв звонких десять тысяч динаров у местных саррафов на чеки, Омар собрался домой. Зима была короткой.