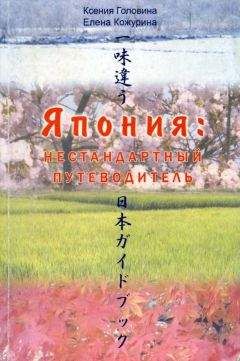На севере, в Литве, события развивались так: опытный в военном деле Зыгмунт Сераковский собрал отряд повстанцев в пять тысяч человек и оказал сопротивление царским войскам, но был тяжело ранен и захвачен в плен, выступление было подавлено.
О том, что происходило в самой Варшаве, «лондонцам» сообщил приезжавший в феврале, в самый разгар событий, Андрей Потебня; затем он вновь отправился туда, пытаясь хоть что-то изменить в кровавой неразберихе, в которую вылилось восстание.
Скоро там и тут в городе загремели залпы, это был закономерный итог польского выступления.
Как же приняла тамошние события российская общественность? На расстоянии они не так смущали и даже служили подтверждением мощи империи. В невской столице все более распространялся шовинистический угар, произносились тосты за верховного распорядителя усмирений Муравьева, того самого, что еще после подавления восстания 30-го года получил прозвище «вешатель».
Были казнены поляки, с которыми «звонари» прощались несколько месяцев назад в Лондоне.
…У Николая Гавриловича Чернышевского летом 1862 года последовала полоса событий, каждое из которых способно сломить. Умерли Добролюбов, младший сын и отец Чернышевского, Тарас Шевченко, за облегчение судьбы которого боролись; арестованы друзья.
По непрерывной слежке за ним самим было ясно, что кольцо сжимается. Настолько ясно, что… что уж тут предпринять?.. Бежать за границу? — не вырваться из Петербурга, да и невозможно уехать без семьи; наконец суд над ним и наказание также послужат агитационным материалом. Решил, что он должен принять все, — и это придаст больший вес его слову!
Он был готов к их приходу: ни одного листка в домашних архивах и рукописях, способных стать зацепкой для следствия… Готовилась и другая сторона. Слежка и попытки просмотреть бумаги, шпионство подкупленных слуг должны были помочь связать имя Чернышевского с возможно большим числом событий, волновавших Россию. Фактов все же было негусто. К примеру, кто-то из его гостей давал читать прислуге прокламацию «Что нужно народу?». Да еще то обстоятельство, что в доме бывало много людей «превратных мнений»: студенты (связь с университетскими волнениями), приходил телеграфист (протесты почтово-телеграфных чиновников), преподаватели, военные, литераторы и так дальше… Следствие о многом догадывалось, Александром II даже было высказано мнение, что теперь наконец оно «напало на настоящий источник зла».
И вот явились. Хорошо, что Ольга с сыновьями была в Саратове. Проводил обыск жандармский офицер Ракеев, тот самый, изрядно постаревший, что когда-то тайно вез тело Пушкина из Петербурга в Святогорский монастырь. Чинов сыска, между прочим, немного, в III Отделении насчитывалось всего тридцать чиновников, и они были нарасхват. Одновременно с арестом Чернышевского генерал Дренякин, известный зверскими усмирениями в ходе реформы, отправился в Москву для задержания корреспондентов «Колокола» — Петровского и Владимирова. Была развернута планомерная выкорчевка демократических сил, подготавливался разветвленный процесс 32-х, следствие по делу которых продлится два года.
Власти имеют основания полагать, что Чернышевский — один из руководителей «Земли и воли». Однако прямых улик против него нет. При аресте типографии была найдена прокламация «Барским крестьянам», но относительно ее авторства не было доказательств. Не обошлось и без провокатора. Отчасти был посвящен в дела тайной организации довольно убогого вида молодой офицер Костомаров — пробующий себя в стихах и переводах, но попивающий, расхлябанный и тщеславный. Увы, помощников было мало, и «землевольцами» порой привлекались к революционному делу люди случайные. По слабости характера и жадности к житейским благам он оказался завербованным сыском, назвал следствию немало имен. Он, по-видимому, и сфабриковал в помощь тонущему дознанию якобы правку Чернышевского к обнаруженной прокламации. Почерк был крайне мало похож, и приглашенные на судебное заседание эксперты оказались было в замешательстве… ну да сообразовались.
В мае 1864 года состоится оглашение приговора и гражданская казнь Чернышевского. Два года перед тем в камере Алексеевского равелина продолжалась его работа над романом «Что делать?». Впереди — семь лет нерченской каторги и затем поселение в Вилюйском остроге.
Он отговаривал в письмах жену от приезда к нему туда. Ибо условия здесь предназначены для добивания. Иногда, завернув голову в полотенце, ссыльные выходят в лес для прогулки. Свежее мясо, если оставить его неукрытым, оказывается белым, как бумага, высосанное гнусом…
Однако и в тамошних условиях продолжалась его литературная работа.
У «Колокола» не было возможности высказаться о процессе 32-х, так как это усугубило бы положение арестованных.
В таком случае — о Польше, несмотря на российские здравицы в честь «вешателя» и несмотря на то что «лондонцы» объявлены в отечественной печати изменниками. Герцен сознавал, что, может быть, настал высший час служения «звонарей»: сказать «любой ценою» то, что должны сказать…
Против «Колокола» теперь общественное мнение России, ее государственная мощь и почти вся печать. Как сказал известный прозаик Н. Лесков, это был «фискальный период русской литературы». В Петербурге на представлении оперы, когда началась польская мазурка с Кшесинской в первой паре, публика разразилась таким шиканьем, что пришлось опустить занавес. Высказываясь в защиту Польши, «Колокол» должен был потерять немалую часть своих читателей.
Но Александр Иванович считает, что он не может сойти со своей дороги и свое знамя должен донести. «Колокол» разъясняет, как стала возможной польская трагедия. «Правительство отвратительной хитростью заставило народ сначала быть безучастным, потом сочувствовать подавлению поляков: оно стало выдавать польское восстание за магнатский и католический мятеж, а себя самого — защитника польского крестьянства». «Мы с Польшей, потому что мы за Россию! Мы с поляками, потому что одна цепь сковала нас обоих».
— Даже ты, Герцен, не устоишь против всех, — сказал Бакунин. Он после истории с оружием охладел к польскому вопросу.
— Поглядим. Я их отшлифую!
Однако за полгода тираж «Колокола» упал в пять раз.
Глава двадцать восьмая
Предвечернее
Ивана Сергеевича порой охватывало отчаяние. Вот теперешний разговор с дочерью… Полинетте уже двадцать с небольшим, она крепенькая, невысокого роста, зеленоватые глаза стали невелики и настороженны, и прежде всего обращает на себя внимание в ее лице самолюбиво выпяченная губа. Невозможно заставить ее отправиться с визитом в Куртавнель. Она утверждает, что была там куклой и не имеет никаких обязательств по отношению к н е й. Исступленно ревнует отца ко всему тамошнему.
«Как же ты можешь отказывать во внимании человеку, которого твой отец ценит больше всех других людей на свете?» — «Это потому, что она… любила вас». — «И что же? К тому же не любила… (Ясно, что дочь имеет в виду «роман».) Как это отражается на тебе?» Дочь сидит, спрятав взгляд… «Еще меня огорчает, что характер у тебя не меняется: все то же сочетание праздности, строптивости и недоверия… Эти склонности приведут тебя к сближению с людьми нравственно ниже тебя, которые будут тебе льстить».
Два года назад Поля закончила пансион. Живут они в приезды Тургенева в Париж втроем с воспитательницей из англичанок Марией Иннес. Милая и терпеливая эта дама собирает марки — ей шлют их все друзья Тургенева.
Иван Сергеевич объясняет в одном из писем то, почему между ним и его дочерью «мало общего: она не любит ни музыки, ни поэзии, ни природы, ни собак, а я только это и люблю». Да к тому же еще — искажающая чужая среда… «С этой точки зрения мне и тяжело жить во Франции — где поэзия мелка и мизерна, природа положительно некрасива, музыка сбивается на водевиль или каламбур — а охота отвратительна». Для его же дочери это все хорошо… Она не чувствует подмены, замещает другими полезными ей качествами. Вот почему она для него иностранка…
С чувством усталости размышляет Иван Сергеевич о здешней жизни. В Полинетте нет близкого человека. И — «черт меня тянет думать о счастье, для которого я не создан…» Ему предстояло устроить судьбу дочери, выдать ее замуж. Это было непросто, потому что она была не слишком красива и капризна. (Удастся только в 1865 году. Женихом ее будет владелец типографии Брюер, молодой человек сугубо порядочный «в здешнем понимании слова». Он скрупулезно проверит условленное приданое — «будто я шаромыжник какой»… Поле он будет нравиться.)
Устроить дочь — и тогда он обретет свободу. Пока что он бывает в России урывками, хотелось бы иначе. В одном из писем той поры он говорит об этой не ему лишь одному свойственной тяге: «Я должен все же сказать, что в родном воздухе есть нечто неуловимое, что вас трогает и хватает за сердце. Это невольное и тайное тяготение тела к той земле, на которой оно родилось. И потом детские воспоминания, эти люди, говорящие на вашем языке и сделанные из одного теста с вами, все, вплоть до несовершенств окружающей вас природы, несовершенств, которые делаются вам дорогими, как недостатки любимого существа, все вас волнует и захватывает. Хоть иной раз бывает и очень плохо — зато находишься в родной стихии. Может быть, говоря все это, я хочу только выдать необходимость за добродетель».