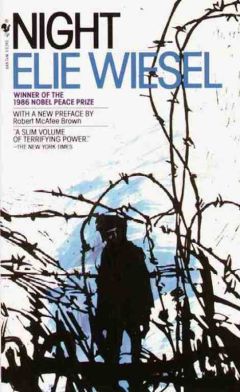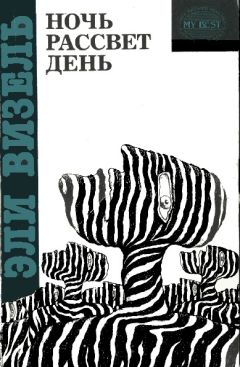А здесь рождается образ человека. И, чтобы обрести его, весь народ уже в третий раз двинулся в путь.
Это все тот же народ, и походка у него все та же. Не изменились и декорации. Персонажи меняются с бешеной скоростью: будто кто-то торопливо заслоняет одни картины другими, все более и более старыми. Цари и отшельники, принцы и мятежники смешиваются с раввинами в черном, с солдатами в защитной одежде, со студентами-талмудистами, от восторга не чувствующими под ногами земли. Глаза и руки их полны мечтаний и приношений. Несколько вечностей назад начался их путь, и у них походка людей, твердо решивших сделать своими и свое прошлое и свою судьбу.
Вот этот упрямый, сгорбленный папаша с порыжевшей бородкой: на каком костре, по какому закону он терпел свое мученичество? А этот подросток с круглой спиной — от какого счастья его отвергли? И та девочка, грызущая ногти: в каком гетто, в какую эпоху обрела она такую зрелость, такой опыт? Она идет мелкими шажками, и я спрашиваю себя, почему она не бежит, она должна была бы бегать и расти. Она должна была бы убежать и выжить. Она не бежит потому, что ее держит за руку женщина. У женщины благородная, неторопливая походка. Внезапно я вижу профиль женщины — и сердце мое обрывается. Все начинает кружиться вокруг меня и во мне. Теперь я вижу отчетливо их обеих, обмануться невозможно: у девочки открыт рот, она жадно ловит воздух, ей душно, ей хочется пить, но она ничего не говорит, чтобы не огорчить свою мать, которая и моя мать тоже.
И вот так, то уступая, то сопротивляясь, я окончательно отдаюсь галлюцинациям и вижу друзей, родных и соседей, всех мертвецов со всех кладбищ, вижу все мертвые города с того кладбища, в которое превратилась Европа. Все стали пилигримами, и в этот сумеречный вневременной час наполнили собой Храм, чьим огненным подножием, чьими святителями они стали. Легкие, высокомерные, покинувшие этот мир, они вернулись сюда издалека, очень издалека, поверх крыш и звезд, вернулись из разных времен, от разных очагов для того, чтобы одновременно пережить и воскресение начала и воскресение конца. Ничто не могло их удержать, даже та воля, что сковала Мессию. Ибо нет у них могил, чтобы их удержать, нет кладбищ, чтобы привязать к земле; они спустились с неба, небо их кладбище, а взгляд их — вечность. И ее мрак.
Я смотрю на них и боюсь смотреть, боюсь открыть среди них себя. Тем хуже, я сделаю вид, что ничего не видел. И я смотрю, смотрю без конца. Отец поднимает на плечи сына и велит ему смотреть во все глаза. Пара влюбленных, держась за руки, убыстряет шаг. Две вдовы, наоборот, замедляют. Я стараюсь очнуться: да нет же, ты ошибся в дате, если не в месте. Ты все это видел не в этот день! Хорошо. Ну, и что из этого? Я видел это в другой день, через неделю, или через месяц. Время не имеет значения. Да и не один я видел все это и вижу до сих пор. Вот человек разглядывает толпу, скрестив на груди руки. Теперь я знаю, кто это, и ошибка тут невозможна: это странствующий проповедник, который приносит с собой молчанье, то, которое нужно, туда, куда нужно, и тогда, когда нужно. Он мрачен и суров, он и выше и прямее, чем был при жизни, и он беседует с учеником, который, странное дело, на него похож. «3наешь ли ты, почему Иерусалим был спасен?» — «Нет. Почему?» — «Потому что на этот раз все они — города и местечки, большие и маленькие, сотнями и тысячами, и сотнями тысяч — поднялись на его защиту».
И, как всегда, он говорит правду. Недалеко отсюда, в пещере Мартеф ха-Шоа, посетитель увидит только их названия, великое множество названий, одни прославленные, другие неведомые, которые и произнести-то трудно; они выгравированы в черном камне. Вот и все, что осталось.
Города и местечки, лишенные своих евреев, имена, отрезанные от своих источников, соединили свои усилия и воздвигли огненный щит — амуд эш — вокруг города, который их принял. Сигет и Лодзь, Вильно и Варшава, Рига и Белосток, Дранси и Братислава сошлись в Иерусалиме.
«И мертвые, — сказал проповедник своим вибрирующим голосом. — И они были с нами. Тот, кто сегодня жив, кто победил сегодня, не должен забывать о них. Израиль победил своих врагов потому, что его армия, его народ насчитывали всех нас и еще шесть миллионов».
Молодой женщине, которая глядит на меня — вместо того, чтобы созерцать тени у Стены, я говорю:
— Теперь, Малка, вы знаете, как евреям удалось выиграть эту войну.
Она морщит лоб и сжимает губы:
— Да, я знаю.
Я поворачиваюсь к ней и смотрю ей прямо в глаза:
— Больше я Катриэля не видел.
Она выдерживает мой взгляд.
— Знаю. Это я тоже знаю.
Вон человек.
Вы его видите? Он сидит на поваленном дереве, в стороне, далеко, и вглядывается в тени, которые молча колышутся над башнями, чтобы покинуть площадь раньше, чем проклюнется заря. Скоро они скроются в детских мечтах стариков и навязчивых снах сирот.
Скоро рассвет. Солнце рассыплет свою малиновую пыль по переменчивым долинам, прольет свою кровь на купола, на своды, на башни и подожжет висящие между небом и землей горы.
В этот час вокруг меня образуется пустота. Случайные посетители разошлись по домам, стража снята. Мои товарищи уходят по одному или по двое, по трое. У нищих тяжелая походка, у сумасшедших легкая. Одни смеются, другие хмурятся. Перед тем, как расстаться, они держат совет и делят между собой мир, который сегодня им опять предстоит обойти.
Один пойдет в синагогу, другой на базар, на кладбище, на пляж и — почему бы и нет? — в театр. А принц — вернется ли он в свое царство за Самбатионом? И найдет ли слушателя слепой Шломо? И Аншель, почувствует ли он себя менее виноватым перед своими голодными поставщиками? Может быть, когда-нибудь я это узнаю, может быть, завтра, если завтра существует.
— Я хочу домой, — беззвучным голосом говорит Малка. — Пойдем со мной. Тебе тоже надо отдохнуть.
Волосы ее растрепались, черты расплылись, рот увял: она жалуется, и, как все отвергнутые женщины, она жалка.
— Я больше не могу, — говорит она, почти шепчет. — Я больше не выдержу. Прошу тебя: испытание длилось слишком долго. Пойдем, пойдем домой.
Бедная Малка. Знает ли она, что нелегко вернуться назад? Знает. Но это ее не обескураживает. Что ей ответить? Лучше не слушать.
А вот уже и первые верующие, первые пилигримы. Сейчас начнется утреннее богослужение. На нем присутствуют всегда одни и те же люди. Пинхас-отшельник: двадцать лет назад он заперся у себя в доме и дал обет выйти только тогда, когда Старый город будет освобожден. Недавно к нему постучал офицер: «Реб Пинхас, пойдемте со мной!». Дальше Барух, немой, с закинутой головой, с приоткрытыми губами, кажется, спрашивает у неба, позволено ли ему наконец нарушить молчание. За ним тоже приехали в военном джипе. Он отказался сесть в джип. Он смотрел на офицера, не понимая, о чем ему говорят, потом, не изменив выражения лица, не мигнув, кинулся бежать, как одержимый, совершенно не обращая внимания на непрекра-щающийся обстрел, и, странная вещь, он был у Стены раньше, чем джип. И третий богомолец, тоже всем знакомый: Гилади. Он молчалив и печален: он был последним бойцом, оставившим этот квартал после его падения. Теперь он бродит тут часами. А Катриэль, где он? Быть может, его увели мертвые?
Что это — усталость, бессонница? Я чувствую, что моя рана открывается снова. Из глубин пропасти каскадом поднимаются годы и отчаянно бьются о мое сердце. Меня охватывает тревожная тоска, как будто предстоит мне встретить, увидеть что-то абсолютное, окончательное и чистое, как смерть ребенка на рассвете. Я смотрю на свою жену, трогаю ее, и мне хотелось бы отдаться любви, но что-то во мне сжимается и содрогается. И меня охватывает непобедимое желание идти. Идти без остановки, без цели, без отдыха, день за днем, ночь за ночью, с пересохшим горлом и расширенными зрачками, идти, чтобы наказать тело, взявшее в плен время, наказать дух за то, что он ему сопротивлялся; идти, чтобы за пределом истощения настичь ту пронзительную ясность, которая раскалывает зеркало на тысячи осколков и каждый осколок на тысячи отражений, идти, чтобы умереть, продолжая идти, может быть, только для того, чтобы потом ожить и снова вспоминать — тем хуже. Но Катриэль останавливает меня. Он меня судит.
Посмотрите на меня, Малка. Посмотрите хорошенько и скажите, кого вы видите, потому что я уже не знаю, кто я. Скажите мне, ждете ли вы Катриэля так, как я его жду. Катриэль — действительно ли его звали так? Да или нет — неважно; это имя он принимал, чтобы отвести угрозу или чтобы снискать Божественное присутствие. Иногда, сияя, он произносил это имя медленно, торжественно; он пробовал его на вкус и испытывал его глубину. А иногда, разгневанный, желчный, он бросал его с размаху, словно желая от него избавиться. Ночью, за палаткой, это имя в его устах превращалось в жалобу, в прощальную песню; он пользовался им, чтобы открыть брешь в самом себе или дойти до предела в своем видении, в своем порыве. Днем это имя было для него игрушкой, одеждой. А его отсутствия — они были непредсказуемы и продолжались недолго. Всего несколько мгновений. Время, необходимое для того, чтобы войти в чужое сознание и опомниться: не надо, Катриэль. Тогда в глазах его возникал дрожащий, мучительный блеск. И у этого блеска не было имени.