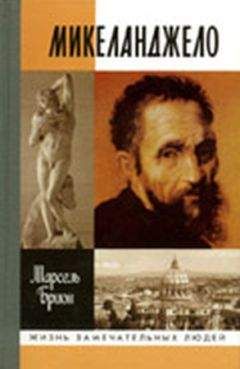— А как же тут? — не унимался Пархом.
— Тут может быть и какая-то хитрость…
Не успел он закончить, как раздались два выстрела.
— Вот и огрызнулся арьергард. Вперед! — скомандовал Колотушкин. — Догнать подлецов!
И он скрылся в темноте, следом за ним побежали Пархом и несколько дружинников. Они пробежали саженей двадцать, никого не встретив. Вдруг раздался выстрел сбоку, и Пархом вскрикнул.
— Что такое? — приблизился к нему Колотушкин.
— Шапка… Где шапка? — ощупывал голову Пархом. — Упала…
— Хлопцы! А ну-ка, догоните этого стрелка. Смотрите, вон он бежит.
Трое дружинников бросились в погоню за ним.
— «Упала»! — передразнил Колотушкин Пархома. — Твое счастье, что у тебя шапка высокая да пуля глупая, полетела не туда. Ищи шапку!
Пархом ощупью нашел в снегу шапку.
— Так и есть! — воскликнул Колотушкин. — Ну и счастливый ты, сегодня счастье улыбается тебе. Дважды стреляли в тебя и ни разу не попали. Гляди! Пуля влетела прямо в твою шапку. Видишь, как разорвала, какую дыру сделала, а жены-то у тебя нет, кто же залатает ее? — пошутил он.
Дружинники поймали солдата, стрелявшего в Пархома.
Молодой, безусый, курносый солдат шмыгал носом, вытирая слезы.
— Зачем ты стрелял? Видел, что люди идут! — набросился Колотушкин на солдата.
— Я не виноват… Меня оставил офицер и приказал стрелять.
— Аты, дуралей, обрадовался, что винтовку в руки взял. Откуда ты?
— Из Черниговской губернии.
— Хватит! — приказал Гречнев. — Свяжите ему руки, и пусть идет вместе с нами. Потом допросим.
Спустя некоторое время прозвучал еще один выстрел, и больше противник не откликался.
Осторожно приблизились к вокзалу и остановились, пораженные страшным зрелищем. Всюду лежали тела убитых защитников горловского вокзала. Из-за заборов выглядывали перепуганные люди. Из погреба, в котором хранили заготовленный на лето лед с реки, вылезли два железнодорожника.
— Дедушка Парфентий! — окликнул старика Гречнев. — Вы же ламповщик. А ну-ка, зажигайте все лампы. Почему это вы в погребе оказались?
— Оказался, — закашлялся старик. — Полдня просидел в леднике. Как налетели на станцию эти душегубы, офицер кричит: «Рубите! Бейте их! Они против царя!» И казачня начала рубить, Вон поглядите, лежат наши товарищи, герои.
Старик со своим помощником отыскали лампы и фонари, залили в них керосин и зажгли. Лампы и фонари освещали станционные комнаты, перрон, железнодорожные пути, прилегающую к вокзалу площадь.
Начали подходить бойцы из отрядов Гуртового и Дейнеги. Ни солдат, ни казаков нигде не было.
Гуртовой, Гречнев, Колотушкин, Пархом подошли к покойному Дейнеге. Чья-то заботливая рука накрыла его кожухом. А он лежал, словно раздумывая о том, что произошло в Горловке в этот страшный день.
— Вчера говорил мне, что гришинцы готовы к бою, — тихо произнес Гуртовой.
— Мне тоже доложил, что дружинники у них боевые, — добавил Колотушкин.
Командиры склонили головы перед погибшим товарищем.
К ним подошел руководитель Распорядительного комитета Г лушко.
— Охрану выставили? — спроил у Гуртового.
— Выставили. По пять человек в группе, а таких групп шестнадцать, на всех направлениях поставлены.
— Ой! Ой! — донеслось со стороны ограды, которой был обнесен небольшой скверик возле вокзала. — Идите сюда!
Все поспешили на зов. Следом семенил и старик Парфентий с фонарем.
— Да это же наш Матвей, слесарь! — изо всех сил крикнул старик.
— Парфентий! Есть тут кто-нибудь из наших? — спросил Матвей.
— Есть! Есть! — наклонился над ним Глушко. — Я — председатель Распорядительного комитета.
— А! Товарищ Глушко… Слушай… Ой, трудно говорить. Они тут меня застрелили, а я живой. Слушай… Я слышал их разговор… Офицер кричал, что идут дружинники из Екатеринослава и Краматорска… Ой… Больно… И у этих дружин пулеметы и бомбы… Он сказал, что сегодня будут отступать…
— А еще, еще? Говори, Матвей! — Еще ниже наклонился над ним Глушко.
Матвей помолчал, а потом через силу прошептал:
— Они бежали в Енакиево. Тяжко… Тяжко мне говорить…
— И людей угнали, взяли их в плен, — рассказывал старик Парфентий. — Много людей, тех, что были без оружия, только с железными прутьями и кольями. Казаки окружали их и погнали… На Енакиево погнали…
Гавриил Афанасьевич коснулся руки Пархома:
— Пойдем со мной.
Он привел Пархома к низкому строению с вывеской над дверью: «Камера хранения».
— Посмотри! Это ваш парень?
В тусклом свете Пархом увидел знакомое лицо. Неужели это Тимоша? Неужели он приехал из далекой Запорожанки, чтобы погибнуть здесь, в бою? Стал вспоминать, как Тимоша мечтал заработать тут денег, потом приехать на месяц в гости в Запорожанку, жениться и увезти молодую жену в Юзовку. Он, этот мечтатель, видел себя взрослым, закаленным шахтером.
Пархом стал на колени, поправил Тимоше на лбу русые кудри, застегнул еще на одну пуговицу кожушок, сложил ему руки на животе и долго вглядывался в еще розовое лицо своего побратима, словно смерть не коснулась его своим черным тленом.
Вслух произнес:
— Гимоша! Что же ты натворил? Что я скажу твоей матери? — и поцеловал его в холодные уста.
…Как ни печально было на сердце, как ни тяжко было смотреть на жуткую картину закончившегося боя, руководители восстания не опускали рук. Они делали все, чтобы хоть как-то навести порядок, захоронить погибших. Строго проверяя, как несут дежурство в караулах, Распорядительный комитет призывал всех дружинников, прибывающих на станцию, переносить тела погибших на площадь перед вокзалом. И Глушко, и Гречнев, и Гуртовой, и Пархом тоже принимали в этом участие. Рабочая Горловка не спала. С быстротой молнии разошелся слух по всем улицам, и к вокзалу стали стекаться женщины и дети, отцы и матери участников восстания, находили среди убитых своих родственников. Над затихшим поселком стоял несмолкаемый плач. Женщины падали на землю возле своих близких, целовали их, причитали, давая волю слезам. Становилось жутко от их душераздирающих рыданий.
Гречнев шепнул Глушко, что нужно незаметно подсчитать, сколько повстанцев погибло в сегодняшнем бою.
— Это нам нужно не только для того, чтобы знать, сколько наших товарищей сложило головы на поле битвы, а и для того, чтобы, когда придет время, предъявить счет всем царям и властителям за народную кровь, пролитую в дни восстания. Обо всем напомним им — и о Павлике, прожившем всего двенадцать лет, и о всех наших побратимах, сейчас лежащих на горловской земле…
Шесть часов продолжался бой в Горловке, бой почти безоружных рабочих, у которых на десять человек была лишь одна винтовка. Об этом говорил на импровизированном митинге любимец горловских шахтеров и металлистов учитель Гречнев, обращаясь к притихшей тысячной толпе. А вокруг нависла морозная донецкая ночь, и звезды, словно далекие свечи на небосклоне, освещали траурную картину рабочей тризны.
Царские палачи торжествовали победу — было убито триста повстанцев и пятьсот человек безоружных взято в плен, угнали пожилых тружеников с огрубевшими руками, украшенными застарелыми мозолями. Торжествовали, но трусливо бежали с места своего преступления, боясь возмездия воинов рабочих легионов, которые (так они думали, эти кровопийцы и убийцы) должны были вот-вот прийти на помощь рыцарям горловской битвы. Струсили и убежали из Горловки, чтобы собрать еще большее войско. И собрали, возвратились в Горловку через два дня, двадцатого декабря. Появились с пулеметами и даже приволокли пушку, чтобы пролетарии видели, что царь может и пушечными снарядами усмирить их. Получив пощечину от японских генералов, царь-убийца теперь воевал со своим народом. На то он и самодержец, чтобы показать свою спесь и свой нрав. Снова пролилась рабочая кровь, снова зарыдали обездоленные жены и залились слезами дети, потеряв своих отцов-кормильцев. Но в дни, когда власть в Горловке находилась в руках Распорядительного комитета, было сделано немало — не только похоронили погибших побратимов, но и отыскали всех приспешников, верных царских слуг, и судили их народным судом. Еще долго разносилось эхо горловской битвы. До конца декабря дружины Адеевки, Ясиноватой, Дебальцева и Гришина держали в своих руках свои бунтующие станции.
Донецкие большевики вынуждены были уйти в глубокое подполье, но в сердцах рабочих остались посеянные ими зерна веры в неминуемую победу над царскими сатрапами и над самим царем. Большевистский комитет отдал приказ руководителям восстания скрыться до определенного времени, чтобы не попасть в когти жандармов. А придет время — и на призыв партии они снова встанут в боевые ряды. Вместе с Гречневым Пархом выехал в Луганск. Оттуда его направили в Константиновку, побывал и в Елизаветграде, а дальше его путь лежал к берегу Черного моря, в Одессу. Вспоминал дружеские слова Гречнева и Колотушкина о том, что он родился в сорочке, которая бережет его от смерти. Этим щитом была и горячая до боли любовь к матери, его любимой матери — самого дорогого на свете человека. И еще одним непробиваемым щитом была любовь к Соне. Эта любовь хранила его. Никогда не забыть ему материнского напутствия помнить всегда и везде, для чего живет человек. И он помнил, часто спрашивая себя, для чего он живет, и отвечал так, как учила его мать.