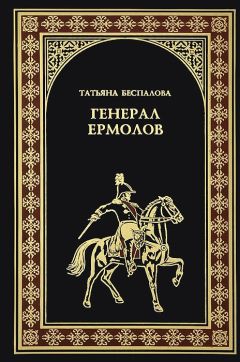— Поле! — прошептал Фёдор, не веря собственным глазам.
— Ну да! — Алёшка подбоченился в седле. — Поле. А почём б ему не быть, полю-то? Поле как поле!
— Ты, Алёшка, всё древко знаменное в руках таскаешь. Это, конечно, дело почётное. Да только от заботы такой стал ты тож деревянный и всё-то тебе в мире одинаковым кажется. Три месяца минуло, как я Грозную покинул. Уходил лесом, по просеке. Оставил бивак лесной: землянки, груды брёвен да кучи камней. А теперь, сам видишь: на месте этом чистое поле расстилается, крепость, бастионы, пушки...
— Да, Федя! Долгонько ты с басурманами по горам куролесил. Раньше-то, я припоминаю, молчалив был, а ныне трандишь без умолку!
— Чтой-то там в поле, Леха, а? Кибитки? Телеги?
Алексей присмотрелся.
— То табор цыганский, что же ещё? Смотри: повозки вкруг поставили, костры жгут. Разве подойти поближе и посмотреть?
В недальней дали, там, где между увалами пряталась мутная Сунжа, на усеянном свежими пеньками и останками поваленных дерев поле стоял лагерем отряд не отряд, табор не табор. Фёдор присмотрелся. Между окованными железом ящиками и тентами кибиток сновали люди верховые и пешие, над ними стелились дымки костров.
— Не стоит, — отрезал Фёдор.
— А я думаю: нечего бояться! Домчимся, глянем ближе, что к чему, и назад, — размечтался Алексей. — Там цыганки в цветастых шалях, музыка...
В этот момент с крепостной стены порхнул легчайший дымок, блеснуло белое пламя, грохот пушечного взрыва отразился эхом от стены деревьев за их спинами. Со стороны «табора» послышался леденящий душу свист, крики людей, конское ржание. Соколик под Фёдором заволновался.
— Трусишь? — переспросил Алёшка.
— По «табору» из крепости бьют шрапнелью, братишка... — пробормотал Фёдор. Он разглядел наконец среди ящиков и кибиток орудийный лафет и второй, и третий!
— Что будем делать? — спросил Алёшка.
— Ждать пока... — ответил Фёдор. — Бежать обратно навстречу его сиятельству? Какой в том смысл, ежели через пару дней они сами будут здесь? Я мыслю: обождать нам надо, Алёха. Заодно посмотреть что к чему. Эх, сюда бы подзорную трубу Алексея Петровича!
— Не надо трубы, — пробормотал Алёшка. — Я сам, как смеркнется, схожу к «табору». Посмотрю поближе что да как. К утру вернусь. А ты жди-пожди, а коли чего — беги к его сиятельству.
На том и порешили.
Соколик, Пересвет и Фёдор провели беспокойную ночь. Они расположились на пригорке, в густых зарослях орешника, на границе леса и поля. Отсюда в светлое время суток и крепость и вражеский стан были как на ладони. Пересвет и Соколик дремали, низко склонив головы к полупустым мешкам с овсом. От Фёдора сон бежал. Казак то и дело просыпался, присматривался к коням, прислушивался к звукам вражеского лагеря. Там, не скрываясь, жгли костры, слышались звуки барабана и флейты. Бивуачные огни то потухали, то разгорались вновь в других местах. Время от времени порывы слабого ветерка доносили до Фёдора многоголосое пение. Бастионы Грозной, едва различимые во мраке, скудно освещались кострами.
Алёшка явился на рассвете, когда Фёдора сморил беспокойный сон.
— Жрать хочу — сил нет, — объявил знаменосец Гребенского полка Терского казачьего войска.
— Еды нет, — мрачно заметил Фёдор. — В этих краях огонь за версту видать, а голоса за две слыхать, а ты орёшь как оглашённый!
— Разжигай костёр, Федя. Ныне врагам не до нас. В ночи к ним подкрепление из леса пришло. Всадников много. Несколько сотен, точнее не скажу. Но главное не это. Те, что из лесу пришли, привезли с собой на телегах порох и ядра для пушек. Я близенько подобрался, голоса их ясно слышал. Мож чего и недопонял, но они так рассуждали, будто это сам Нур-Магомет к ним прибыл. Ждали его с нетерпением. Нур-Магомет этот, Федя, первейший из бандитов, не хуже удавленника Йовты! Думаю, нынче будет дело. Так что возжигай хоть маленький огонёк, братишка. Голодный солдат — никудышная тварь.
— Как же я такого войска не заметил? — недоумевал Фёдор.
Он уже развёл костерок и старательно помешивал в котелке похлёбку из тощей зайчатинки.
— Веришь, всю ночь глаз не сомкнул, всё огоньки считал. Они костры до самого утра жгли...
— Верно, жгли, — подтвердил Алёшка.
— Неужто я уснул, Алёшка?
— Коли и уснул, большой беды в том нет. Я не о том думаю. Сидим мы тут с тобой второй день. Почему из крепости по лагерю более не палят, а? Или не видят они, что народу во вражеском стане сильно прибавилось?
— Я так думаю, что зарядов у них нет, — размышлял Фёдор. — Вчера, как мы прибыли, последний запас картечи расстреляли. И что ныне делать? Ждать прихода его сиятельства с обозом? Да как они пройдут в крепость, коли на поле вражеское войско?
Алёшка вгрызался в жилистое тельце зайчишки, как голодный нёс. Хлеб у них был на исходе. Последнюю краюху, купленную у старой еврейки в Малгобеке Фёдор приберёг напоследок.
— Ещё день-два и мы с тобой с голодухи начнём пухнуть, знаменосец. А потому, скучаем тут до завтрашнего вечера, а потом двинемся его сиятельству навстречу. А там уж оне решат, что далее делать...
Речь Фёдра прервал пушечный залп. Кони вскинули головы. Алёшка подавился зайчатиной, закашлялся, побагровел.
Фёдор раздвинул ветки орешин, присмотрелся. Вражеский лагерь тонул в пороховом дыму. На крепостной стене были видны фигурки солдат в фуражках, киверах и папахах. Второй залп незамедлительно последовал за первым. На этот раз Фёдор ясно видел полёт ядер, видел, как все они упали в Сунжу, подняв в воздух фонтаны брызг. Лишь одно из ядер на излёте ударило в основание крепостной стены.
— По крепости палят, басурмане, — сказал Фёдор, звонко ударяя по широкой спине знаменосца. — Да всё мимо! Ой, и тошно мне, братишка, смотреть на такие глупые дела!
Прокашлявшийся Алёшка тоже уставился на поле брани. По вражескому лагерю мельтешили человеческие фигурки. Противник торопился выкатить орудия из лагеря поближе к крепостным стенам. Коняги и волы тащили повозки с порохом и ядрами.
— Смотри-ка, Федя! Видишь? Они тащат орудия ближе к крепости. Дурни!
— Сейчас нашим самое время сделать вылазку, — подтвердил Фёдор. — Но сначала надо дождаться, пока они подойдут ближе!
— Ближе, дальше! Из ружья по ним всё одно не достать. Ой, смотри, смотри! Видишь?!
В этот момент опустился перекидной мост, ворота крепости распахнулись, на простор вырвалась группа всадников. Часть из них была в гусарских ментиках и киверах, другие — в черкесках и папахах. В лучах утреннего солнышка блеснуло золото аксельбантов и сталь обнажённых клинков. Впереди мчался что есть мочи всадник в белой черкеске на гнедом скакуне.
— Смотри-ка! — оживился Фёдор. — Такой же щёголь, как ты! Самойлов, не иначе. Эх, отважен, его сиятельство!
Со стороны вражеского стана навстречу русской коннице двинулась большая ватага джигитов. Они, улюлюкая, неслись навстречу русским, вздевая к небу клинки, раскручивая над головами ремни пращей. Джигитов было много, не менее двух сотен, и Самойлов отдал команду поворачивать коней, возвращаться в крепость. Русская конница совершила манёвр безупречно. Разделившись на два клина, они уходили к крепостным воротам по широкой дуге. Некоторые из всадников, развернулись в сёдлах задом наперёд и палили по преследователям из ружей и пистолетов. Противник отвечал плотным огнём. В сторону русских летели камни, пущенные из пращей. Что и говорить, горские воины отменно владели древнейшим из орудий убийства. Редкий камень не попадал в цель. Фёдору вспомнилась весна, берег Терека, погибшие товарищи, Аймани...
Горцы палили из ружей. Несколько русских упали с коней. Остальные продолжали уходить от преследования в сторону крепостных ворот. Казалось ещё немного — и вражеская конница настигнет их.
— Эх, что же вы, ребята! — шептал Фёдор.
Наконец с крепостной стены грянул ружейный залп, затем второй, третий, четвёртый. Когда стрельба затихла, поле за спинами русской конницы было усеяно телами убитых врагов. Кони с опустевшими сёдлами в панике топтали тела убитых. Одна из лошадей металась в исступлении, не в силах остановиться. Фёдор не мог оторвать от неё глаз, такими знакомыми показались казаку и изгиб её красивой шеи, и то, как встряхивала она гривой, внезапно меняя направление бешеного бега.
Когда же, наконец, лошадка с разбега перемахнула лафет, заставив пригнуться орудийную прислугу, Фёдор догадался.
— Чиагаран! — закричал он вскакивая.
На несколько мгновений он потерял способность видеть, слышать и дышать. Он чувствовал только, как по щекам потекли постыдные слёзы. Он упал на четвереньки, судорожно хватая ртом воздух. Грудь нестерпимо болела. Наконец ему удалось сделать вдох, ещё мгновение — и он снова обрёл возможность дышать. Но слёзы всё текли, струйками сбегали по усам на подбородок.