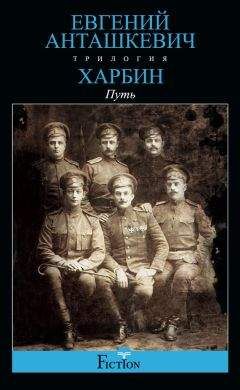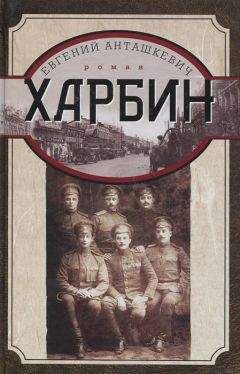«Комнатные люди…» – это мы, – думал Александр Петрович, – «…не отстают от своих маленьких компасиков, игнорируя бушующую «магнитную бурю». И беспомощно блуждают: такие жалкие-жалкие…»
«Жалкие комнатные люди»! – Александр Петрович повторил эти слова и удивился, что он только что с такой лёгкостью, чего у него не получалось раньше, сам зачислил себя в их число. – А почему, собственно, и нет! Мы продолжаем жить нашими старыми ориентирами, это и есть наши те самые «компасики»! Чем я отличаюсь от Анны и что я могу ей объяснить – одни только ощущения, и ничего больше! Я тоже не отличу на улице одного русского от другого. И я пользуюсь своим «маленьким компасиком» и сверяюсь по нему, за неимением другого! Но, – и он перелистнул ещё несколько страниц, – было здесь что-то ещё, примечательное, ага: «…Наше старое студенчество в общей его массе не умело так жадно тянуться к учению, как нынешнее… У нас, у поколения декаданса и предгрозовья, было в крови слишком мало энтузиазма и слишком много скепсиса, чтобы верить в знание без оглядки и упиваться им безраздельно. Мы относились к истинам, нам преподававшимся, спокойнее, как к чему-то обыкновенному, будничному, лежащему в порядке вещей. Недаром и стих народного поэта насчёт «сеяния разумного, доброго, вечного» мы не умели произносить иначе, как с полубрезгливой иронией. Мы ценили университет, любили его, но ведь он никогда не был для нас запретным плодом. Он был для нас чем-то вроде наследственного имущества…»
Александр Петрович дочитал, и его поразила внезапная догадка: «Это не университет был для нас «наследственным имуществом»! Не только университет, а вся Россия была для нас «наследственным имуществом»! Вся!»
Он положил книгу.
Неужели – вот она, эта самая разгадка? Он ведь уже читал эти строки раньше, и не один раз. В нём уже бродило что-то; оно было жгучее, оно толкало изнутри, но не открывалось, не давалось для понимания. Иногда ему казалось, что он находится на пороге какого-то значительного открытия, того, к чему он на самом деле давно стремился: и когда убегал из Москвы, и когда под Симбирском встретился с Каппелем, и когда пытался дать ответ Мишке. Анна никогда ни о чём таком не спрашивала, и он думал, что её это не интересует, а вот поди ж ты! А что бы он мог ей объяснить ещё час назад?
Он перестал слышать стук колёс, забыл о завтрашней встрече с Антошкой или его братом, забыл даже о самовольстве сына… он листал: «Ещё, ещё, было что-то ещё!.. Конечно! – То, что он открыл сейчас как долгожданную разгадку, заполняло его. – Конечно, мы относились к ней как к «наследственному имуществу», жили себе и жили, как наши предки, как деды и прадеды, а в результате… – Вдруг он на секунду задумался и положил книгу на одеяло. – А в результате всё и!..»
И он вспомнил это русское слово – оно уже почти двенадцать лет так естественно висело на губах всей эмиграции, брызгало из газет, трепетало на диспутах, перекатывалось от стола к столу в ресторанах и гостиных.
«А в результате всё и!..»
Он снова услышал стук колёс, обрели реальность чуть освещенные светом ночной лампы углы купе: он не любил это слово и никогда не произносил его, когда шла речь о произошедшем, оно было для него как несправедливый приговор, он избегал общения с ним, и… и вот оно само пришло в голову и… неужели оказалось той самой разгадкой?
«Просрали! Чёрт побери, всё так просто? Тогда чего же я искал? Одним этим словом всё и объясняется? А как тогда этим словом объяснить Анне? А когда-нибудь подрастёт сын! В таком случае что же за мудрости здесь? – Он глянул на очерки Устрялова. – Что пытается объяснить Николай Васильевич? Уважаемый! – Александр Петрович задумался. – А ведь нет! Он протестует, он здесь протестует против этого. Он не согласен! Он не считает, если пишет так, – что Россию просрали! – Он с омерзением проглотил это слово, хотя ему показалось, что он его выплюнул. – И ведь вот как он пишет. – Он перелистал несколько страниц. – Вот! «Россия стала народнее!»
«Что это – «Россия стала народнее!» – повторил Адельберг. – А что же мы?»
«…За все время… мне довелось встретиться всего лишь с одним закоренелым пессимистом… насчёт нашего будущего…»
– Ага! – Александр Петрович не заметил, что говорит вслух. – Вот чего я искал и, естественно, не мог найти, ведь он не пишет и не анализирует прошлое, а пишет о будущем! А я читаю о будущем, а сам ищу объяснений прошлому!
Тут он услышал звуки с нижней полки, прикрыл ночник и прислушался – нет, ничего особенного, только обычным образом погромыхивал поезд.
«Вот так получается, – думал он, – он ищет будущее, а я – прошлое; но ведь оно должно вытекать одно из другого, это ещё древние утверждали! И что он пишет?»
«…Известный опытный литератор, он воплощал свои мысли в ударные, эффектные формы. Он красочно каркал о ждущих Россию ужасах. «Помяните моё слово, – восклицал он, – мы стоим у второго раздела… первый был в Бресте. Война на носу. Мы проиграем её и потеряем Украину, ещё несколько кусочков по западной границе, может быть, кстати, и Ленинград, последнюю форточку в Европу… Но этим дело не кончится. Пройдёт ещё несколько лет, мы не уймёмся по части мирового пожара, – и будет третий раздел России, когда от нас отнимут Кавказ, Туркестан, когда отложится Сибирь… Да, в Кремле не дураки, но ведь и Чемберлен не дурак. Да, у нас три туза, но у них-то ведь четыре короля! Нет, их шапками не закидаешь! Кто реально пока в выигрыше: мы или Европа? Наше золото – у них. Наши земли – у них. Наши ценности, включая сюда и вывернутые шубы, – всё ушло туда. Мы говорили, они делали!..»
«Это говорят в России, – читал и думал Александр Петрович. – Но и здесь говорят то же! Устрялов цитирует какого-то литератора, там, в Москве, но здесь придерживаются того же мнения! Или они тоже – «комнатные люди»?»
В один момент поезд на неровной дороге стало раскачивать.
«Чёрт ногу сломит; но, наверное, не глупый этот, которого он цитирует? Кому доверять? А может, не надо никому доверять, а взять и уехать на родину в Курляндию, как барон Маннергейм? Уехал же он к своим финнам! – Он повернулся на бок и упёрся коленями в стену. – «Всё! Хватит! Однако как же мало места на этой глупой полке! «Комнатные люди», все «комнатные люди»!»
Эта злая мысль показалась Александру Петровичу удачной, но с этим нельзя было заснуть, и ему тут же вспомнилась ещё одна мысль Устрялова, процитированная им из кого-то из немцев: «…Предоставьте овцам свободу слова: все равно они будут только блеять…»
«Все – «жалкие комнатные люди» и овцы!» – зло думал Александр Петрович. – Все, кто делал революцию, – коммунисты, а все, кто о ней продолжает говорить, – коммуноиды! – Это слово, которое он почерпнул из очерков того же Устрялова, показалось ему удачным. В изнеможении он повернулся на спину. – Разбужу Анну, вовек себе этого не прощу! – Он прислушался, из-за стука колёс снизу ничего не было слышно. – А может, он прав? – Он снова отложил книгу. – Вот и все политические изыскания!» – И он вспомнил из Достоевского: «Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить без немцев и без труда!»
Дальше Александр Петрович уже просто листал, ничего особенно не выискивая, он пробежал глазами несколько абзацев о «новой советской школе», о необходимости всеобщего образования, читал не вдумываясь, и в голову пришла только одна мысль: «Пусть лучше учатся в школе, а не как наша харбинская молодежь, всё стремилась в «Русскую бригаду» к Нечаеву, и айда на войну к китайцам…»
Он выключил ночник, надеясь, что это уже окончательно; была плотная темнота, и она сразу залила всё купе. Александр Петрович не заметил, как заснул, и уже не видел ни темноты за окном, ни темноты в купе, ни даже летящих мимо огней редких станционных построек.
С высоты звёзд, висевших на чёрном раскинувшемся над Китаем небе, скорый поезд Харбин – Дайрен, наполненный спящими беззаботными пассажирами, казался медленной, тонкой, чуть подсвеченной лампочками тамбуров безвредной мерцающей змейкой.
Сашик повернулся на бок, под ним что-то скрипнуло, и он проснулся: спать на этом дреколье было больше невозможно.
Рядом сопел Гога.
Они с Гогой вовсе и не собирались спать, просто, когда после отъезда машин с китайскими полицейскими оставшиеся во дворе люди стали располагаться на ночь, они, на всякий случай, тоже принесли несколько ящиков, и Сашик был уверен, что для него это вполне обычное, нормальное дело – провести ночь у костра, а не дома в постели. Уже несколько лет подряд, когда он вступил в «Костровое братство», они уезжали в лагерь на станцию Барим, разбивали несколько небольших палаток, сидели у огня, пекли в золе любимую картошку, пели про неё песню и другие песни, потом старший подавал команду, и они укладывались спать. Вначале некоторые дети привозили с собой настоящие походные раскладные кровати на низких ножках, и Сашик тоже; но потом оказалось, что таким богатством располагают не все, и на общем собрании было решено, что для всех должны быть одинаковые условия, раз их отряд называется «братство». Тогда и выделился Гога, он рассказал, что прочитал о том, что если на землю уложить лапник, а в большие матрацы, сшитые из толстого полотна, набить сухой травы, то на этом можно спать, как на перине. После этого его сразу выбрали товарищем вожака отряда, а когда тот окончил гимназию и стал студентом, вожаком выбрали Гогу. Так и сложилось – в отряде у всех было всё и всё было одинаковое, и галстуки скроили из одного пёстрого куска материи, которую и выбирала, и разрезала, и подшивала Гогина мама. Потом собрали деньги и всем купили тёплые одеяла.