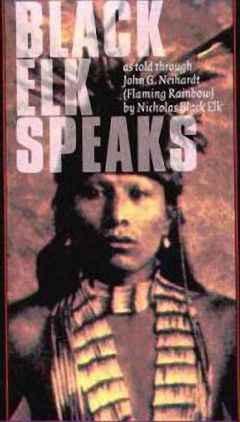— Вместе с ними подался! — опять икнул дворецкий, а у самого, чувствовалось, душа в пятки ушла.
— Врёшь, паскудина! — крикнул кто-то. — Бургомистр недавно по саду прохаживался!
Дворецкого свалили с ног и стали пинать. Женщины хватали, что попадало под руку: вазы, чашки-ложки, срывали с окон дорогие занавески. Из подвалов выносили продукты: копченое мясо, топленое масло, муку, бочки с вином и соленьями…
— Сюда, сюда несите! — приказывал Перегудов. — В одну кучу.
Среди взрослых шныряли мальчишки. Все комнаты обежали, во все щели проникли — бургомистра нигде не было.
— Видимо, в самом деле убежал, подлец! — прохрипел Перегудов.
Вскрыли хлебную клеть. Там лари высотою в два человеческих роста. Из-под навеса выпорхнули ласточки. Перегудов, встав на пустую бочку, заглянул в ближайший ларь, нагнулся, вытащил из зерна камышовую трубочку и засмеялся:
— Ну, друзья мои, сейчас увидите чудо! Такое чудо, каких в жизни не видывали!
В ларе послышались какие-то стоны, с проклятиями из него высунулась лохматая голова бургомистра. Он чихал, кашлял и вопил.
— Вот гад, думал, что он всех умнее! — Перегудов за ворот вытащил бургомистра на свет божий и швырнул на землю.
А в доме и во дворе продолжалась суета. Избитый дворецкий метался среди людей и умолял:
— Православные, не разбейте иконы! Это непрощенный грех. По домам их лучше разнесите. Портрет Александра Павловича не трогайте. Зачем он вам?
— А энтого куда? — спросила растрёпанная баба, державшая портрет Екатерины II.
— Эту в костёр, — крикнул ей кто-то. — Развратница была великая…
В распахнутые окна бросали мебель, ковры, зеркала. Во дворе вскоре выросла большая куча добра, которую собирались поджечь.
Бургомистра готовились повесить на березе. То и дело раздавалось со всех сторон:
— Он беременную ногами пинал!
— Кузнеца села псами порвал на куски!
— Повесить собаку!
На сук березы накинули вожжи, один конец завязали на шее бургомистра, потом подняли на скамеечку.
* * *
Дорога гнулась весенней веточкой. А вокруг дремали старые дубы-великаны, могучие сосны, шумели листвой юные клёны и вязы. Но вот дорога вывела людей на цветущую поляну, где пасся большой конский табун. На пригорке, гордо подняв свою красивую голову, стоял вороной масти породистый жеребец.
— Вот это конь! — воскликнул Перегудов, повернувшись в сторону Алексеева. — Жизнь свою за такого отдал бы, честное слово!
— Жизнь, Роман Фомич, тебе самому нужна. Да и не только самому, а всем обездоленным, кому помогаешь, — назидательно напомнил ему Кузьма.
— Так-то оно так, Кузьма Алексеевич, да уж слишком много страданий человеческих. Куда ни глянешь — сплошное горе народное. — Он помолчал, потом вдруг сказал: — Неплохо бы нам хотя б двух лошадок поймать. Пригодятся. На наших монголках далеко не ускачешь.
— Так ведь лошади-то хозяйские, не наши, — сказал Дауров, помалкивающий до сих пор, но увидев суровый взгляд Перегудова, поправился: — Только вот как их поймаешь, вожак-то нас не затопчет?
— Вожака, если бросится на нас, кнутом бей. Покуда пастухов нету, добрых коней себе добудем.
Свою низкорослую лошадку Перегудов привязал к березе, вынул из котомки полбуханки хлеба, посыпал солью и пошел в сторону табуна. Выбрал сильного коня и стал приближаться к нему. Рысак будто бы этого и ждал. Мягкими горячими губами цапнул хлеб и стал благодарно лизать руки Перегудова. Роман Фомич накинул уздечку, вспрыгнул на него. В это время Дауров отвлекал вожака. Таким образом оседлали трёх лошадей. Но тут, как из-под земли, появились перед ними пять огромных собак. Кинулись на похитителей, рыча и лая. Одна из них бросилась на Даурова и вцепилась своими кинжальными зубами в его штаны. Листрат взвыл волком. Да и на Перегудова налетели два злобных пса.
— Руби их, Кузьма Алексеевич, ру-би-и! — кричал он, выхватив из-за пояса кривой нож, взмахнул им раз, другой, третий. Собаки, скуля, отступили. Перегудов кнутом подстегнул только что пойманную лошадь и закричал: — Братцы! Уходим!
Дорога была заполнена лошадьми и солдатами. В крытом возке подремывал полковник сорока лет, адъютант императора Родион Петрович Хвалынский. Вот он открыл свои мутные глаза, глянул в окно и увидел, что всё вокруг залито лунным светом. На склоне неба дрожала маленькая посиневшая звезда, с трепетом ожидавшая своего падения на землю. У самого горизонта небесная губа растянулась в улыбку — темнота ночи на востоке потихоньку светлела. Еще несколько безмолвных мгновений — и полковник встретит рассвет нового дня в чистом поле. А вчера в это время он был на балу. Свет люстр, духовой оркестр, нарядные платья, запах французских духов — всё это завертелось теперь в его сознании, как волшебный сон. И голос императора:
— Князь, у меня тебе важное поручение. Езжай в Нижний Новгород. Завтра Куракин тебя посвятит в подробности. Назначаю тебя командиром батальона.
И вот Родион Хвалынский едет в город, где ни разу в жизни еще не был.
При лунном свете серебрились соломенные крыши домов, плетни огородов. Хвалынский опять задремал. Вновь его разбудило солнце, которое бесцеремонно заглядывало в окно возка. Округа при свете дня изменилась до неузнаваемости: трава, деревья, даже песок на обочине дороги сияли яркими красками. Радостно пели невидимые птицы.
Незнакомое село встретило батальон колокольными, плачущими ударами. Княжеский возок остановился под горою, на вершине которой краснели пасхальными яйцами маковки церкви. За командиром встали и верховые. Длинная сельская улица дрогнула от множества голосов. Родион Петрович снял с себя толстый бушлат, которым укрывался, и ступил на землю.
— Привал! Всем отдыхать! Ради праздника позволяю по маленькой выпить. Сегодня третий Спас, — добавил он уже тише столпившимся возле него офицерам.
С помощью денщика Хвалынский сменил сапоги, перекрестив лоб, двинулся к церкви, немного покосившейся на правый бок. За ним отправилась большая часть офицеров. Шагов сто подниматься пришлось по заросшей репьями и крапивой тропинке. И тут вдруг заметили, как, перегоняя друг друга, из церкви бежали люди. Последним семенил старичок в подряснике, пугливо озирающийся на бегу. Перед воротами церкви остался сидеть дряхлый старик-нищий. Он пытался было встать, чтобы убежать с остальными, но парализованные ноги его не слушались.
— Не иначе, как нас испугались, — сказал Хвалынский. — Вот темнота деревенская! Царское войско не признали.
Внутри церкви горели две тощенькие свечки. Пахло ладаном и мышами. Перед аналоем валялось дымящееся кадило. Перед алтарем стоял молоденький поп. Увидел полковника, испуганно замахал крестом:
— Господи, спаси и помилуй! Кто вы такие и что вам нужно в божьем доме?
Хвалынский, перекрестив лоб, показал на окружавших его солдат:
— Отец, не тревожьтесь! Мы все истинные христиане и по воле государя императора приехали остановить смуту в ваших краях. — Видя, что священник успокаивается, продолжил уже более строгим тоном: — А что это, отец мой, паства ваша разбежалась, как от проказы? Иль нагрешили сильно?
— Что вы, господин полковник, — смутился поп, — просто народ наш темный и дикий. И привыкли: раз солдаты едут, значит, кнутов жди…
— Н-да! — крякнул Хвалынский, поражаясь дерзости попа. — Давайте о другом поговорим. Хотели мы в вашей церкви помолиться в честь праздника Нерукотворного Образа Спасителя.
Поп переоделся в алтаре в новую рясу, приступил к службе. Хвалынский подозвал к себе Трубецкого и что-то прошептал ему на ухо. Когда тот исчез, встал на прежнее место — перед клиросом. Офицеры молились, склонив головы.
Вскоре церковь наполнилась крепостными. Они испуганно топтались у порога. Сбежавшего дьякона не нашли, заканчивать службу пришлось батюшке одному.
После благословения Хвалынский поинтересовался у священника, как называется село, в котором они оказались. До Нижнего оставалось верст десять. Батальон двинулся дальше. И чем ближе к городу, тем чаще встречались на пути запряженные в скрипучие телеги тощие лошаденки и бычки. На телегах кадки, мешки, сено, дрова … Возницы одеты в старенькие зипуны со множеством заплат. Лица бледные, фигуры тощие, согнутые в три погибели. Глядеть на них было тошно. «На ярмарку, что ли, везут последнее?» — грустно подумал Хвалынский. Он не хотел верить собственным глазам: как бедно живут люди! Повсюду нужда и страх. И злые холодные взгляды. «И этих оборванных полуголодных людей еще надо наказывать за своеволие?.. — с отчаянием подумал полковник. — Эх, и почему этим должен заниматься я? Императору что — в столице на балах развлекается. Про нужду простых людей, поди, и не слыхивал! Он — земной бог. А я кто? Надсмотрщик, палач. Ничего, зато выдвинешься в генералы!» — принялся он подбадривать себя, вспомнив слова Александра Павловича, сказанные им на прощание.