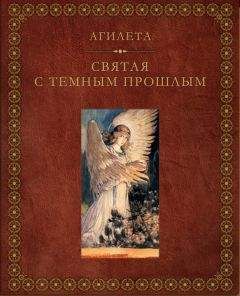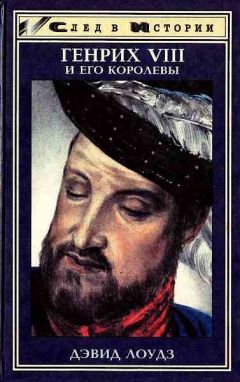8 августа 1812 года император Александр стоял у окна в своем кабинете и молча созерцал, как шпиль Петропавловской крепости сияет золотом на фоне собравшихся туч. В руках у него было письмо генерал-губернатора Москвы, Ростопчина, написанное двумя днями ранее.
«Государь! Ваше доверие, занимаемое мною место и моя верность дают мне право говорить Вам правду, которая, может быть, встречает препятствие, чтобы доходить до Вас. Армия и Москва доведены до отчаяния слабостью и бездействием военного министра[90]. В главной квартире[91] спят до десяти часов утра: Багратион почтительно держит себя в стороне, с виду повинуется и, по-видимому, ждет какого-нибудь плохого дела, чтобы предъявить себя командующим обеими армиями.
Москва желает, чтобы командовал Кутузов и двинул Ваши войска: иначе, Государь, не будет единства в действиях, тогда как Наполеон сосредотачивает все в своей голове. Барклай и Багратион могут ли проникнуть в его намерения?..»
Сказать, что в душе у императора стоял мрак, означало ничего не сказать. Кто, как не сам он, Александр, призван возглавить армию в сей тягчайший для родины час! Два месяца тому назад войска Наполеона Бонапарта перешли Неман – границу его империи, и с тех пор только и делали, что преследовали отступающие русские войска, не встречая сколько-нибудь значительного сопротивления. 1-ая и 2-ая Западные армии под командованием Барклая-де-Толли и Багратиона находились на таком расстоянии друг от друга, что лишь отступив на шестьсот верст вглубь страны[92] смогли соединиться под Смоленском, чтобы, наконец, дать отпор неприятелю. И что же? Два дня продолжавшийся бой закончился новым отступлением и торжеством Наполеона.
Александр справедливо полагал, что сей позор имел причиной в том числе и вражду меж Багратионом и Барклаем. Вспыльчивый южанин открыто обвинял сдержанного северянина в нерешительности, даже трусости, и сообщал подобное отношение к главнокомандующему всей армии. Дошло до того, что солдаты стали считать Барклая изменником, коего подкупил Наполеон. Стратегия же Барклая, все отступавшего и отступавшего на восток, увы, ничем не могла опровергнуть сих ужасных слухов. Настораживала солдат и его шотландская фамилия, считавшаяся в армии немецкой. Нет, дальше так продолжаться не может! И над Барклаем, и над Багратионом должен стать кто-то третий, кому они оба подчинились бы беспрекословно и чье имя звучало бы привычно для русского уха, не вызывая настороженности. Помазанник Божий, царствующий монарх, Александр Павлович Романов – вот кто! Однако, третьего дня на военном совете, все его приближенные, как один, принялись отговаривать царя от той высокой миссии, что он задумал на себя возложить. Вполнамека напоминали об Аустерлице, а затем, доведя его до полного бешенства, князь Горчаков, только что ставший военным министром взамен Барклая, принялся убеждать государя, что «вся Россия желает назначения Кутузова».
Вспоминая те унизительные минуты, Александр в ярости скомкал письмо Ростопчина. И тот предлагает Кутузова – сговорились они все, что ли! Мало того, и московское, и петербургское дворянство единодушно выбрало его предводителем своего ополчения. Да что они нашли в этом полном лукавства человеке?! Сам он, Александр, никогда не простит сему одноглазому хитрецу его позорного поведения под Аустерлицем. Тот ведь знал наперед, что предложенная австрийцами диспозиция войск приведет к их разгрому. Знал, но не решился отстоять свою точку зрения перед государем. Видать, боялся вызвать его неудовольствие. А что в итоге вызвал и вспомнить страшно!..
Александр продолжал в ярости стискивать кулаки, чувствуя, как письмо внутри его ладони становится жалким комочком бумаги. Нет, никогда и ни за что Кутузов не встанет во главе армии! Это сделает он сам, император всероссийский, и наконец-то одержит победу над корсиканским наглецом. Велик ли труд проникнуть в его намерения! Наполеон вознамерился сделать Россию частью своей империи, а значит, следует воодушевить армию присутствием в ней государя, а затем дать генеральное сражение – вот и все.
И, уверив себя в своей правоте, Александр немедленно вызвал флигель-адъютанта с тем, чтобы продиктовать и обнародовать принятое решение. Однако мгновение спустя, к полному своему отчаянью обнаружил, что диктует следующее:
«Михайла Ларионович!
Ввиду настоящего положения военных обстоятельств, нахожу нужным назначение над всеми действующими армиями одного общего главнокомандующего.
Известные военные достоинства Ваши, любовь к отечеству и неоднократные опыты отличных подвигов приобретают Вам истинное право на сию мою доверенность.
Избирая Вас для сего важного дела, Я прошу всемогущего Бога, да благословит деяния Ваши к славе российского оружия и да оправдаются тем счастливые надежды, которые отечество на Вас возлагает.
Пребываю Вам всегда благосклонным
Александр»
17 августа экипаж Кутузова подъехал к местечку Царево-Займище, где Барклай-де-Толли рассчитывал дать французам генеральное сражение. В ста семидесяти верстах[93] к востоку от расположения русской армии находилась Москва.
Несмотря на изнурительную неделю пути, а также боли в пояснице, преследовавшие его как результат многих лет, проведенных в седле, настроение фельдмаршала было солнечным. Он победил! Нет, покамест, не француза, а государя-императора, который вынужден был назначить его главнокомандующим. Кутузов с наслаждением представлял себе, как, наверное, мучился Александр, ставя во главе армии того, кого он после Аустерлица предпочел бы вообще не видеть в пределах своей империи. Но, слава Богу, справедливость восторжествовала, и вновь войска ведет он, Кутузов! И едва ли русские солдаты могли желать другого вождя.
Жаль одного: поздно же император сдался и передал ему бразды правления, ох как поздно! Лишь через два месяца после начала войны! И теперь ему предстоит расхлебывать чужие ошибки. О, нет, он не желает сказать ничего дурного ни о честном умнице Барклае, ни о храбреце Багратионе, но Наполеону должны противостоять более хитроумные противники. Не те, что готовы встретиться с ним в бою и умереть с честью, а те, что потихоньку вытянут из него душу и умертвят его самого. Ведь именно это он и собирается сделать.
Кутузов приказал подать себе коня, чтобы объехать войско. Выбираясь из кареты, он решил не водружать себе не голову великолепную генеральскую шляпу с плюмажем, а удовольствовался той фуражкой артиллериста, в которой выезжал из Петербурга. Не возвышаться над солдатом должно ему сейчас, а показать то родство, что есть между ними. Не солдатом ли был он всю свою жизнь? Солдатом (о чем с гордостью говорил своим воспитанникам-кадетам). Только вот дослужиться сему солдату удалось до генерал-фельдмаршала.
К нему подвели невысокого (знали, как ему трудно взбираться в седло), но бодрого, гнедого клеппера[94]. Золотисто-буланый красавец Хан, память о юности и первых победах, пал много лет тому назад, и с тех пор Кутузов так и не нашел ему достойной замены. Какого коня подавали, на того и садился. Но, хоть сии беспрестанно менявшиеся кони всегда бывали хороши, ни один из них не мог сравниться с тем незабвенным скакуном. Хан был привязан к своему наезднику и чувствовал его так, как может чувствовать лишь любящее существо. Ну да полно! Не время предаваться тоскливым воспоминаниям!
Тронув коня, он поехал по направлению к расположившимся на отдых войскам. Завидев его, и солдаты, и офицеры радостно срывались со своих мест, бросались вперед и выстраивались перед фельдмаршалом, словно море, ласково стелющееся к ногам. Точно ветер носились по рядам приветственные восклицания. И впервые после двух месяцев тревожного напряжения, в котором он находился с того момента, как Бонапарте вторгся в Россию, у Кутузова отлегло от сердца: в него верят, и он любим – чего еще желать?
С теплой улыбкой оглядывая восхищенно взирающих на него солдат и офицеров, Кутузов задержал взгляд на одном из них. Тот показался ему знакомым, и фельдмаршал непроизвольно натянул поводья, останавливая коня. Полковник артиллерии, привлекший его внимание, был человеком необычайно приятной наружности. Среднего роста, крепкого телосложения, он невольно обращал на себя взгляд крупно-красивыми чертами лица и бодрым их выражением. Внешность сия показалась Кутузову чрезвычайно знакомой, но память не давала ответа на вопрос, где и когда мог он прежде видеть сего офицера. И, не желая продлевать неловкость, уже привлекавшую к себе внимание, он задал вопрос:
– Как ваша фамилия, господин полковник?
– Благово, ваше высокопревосходительство.