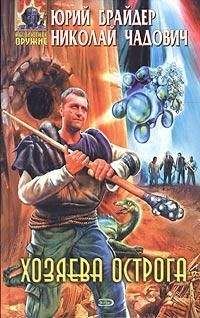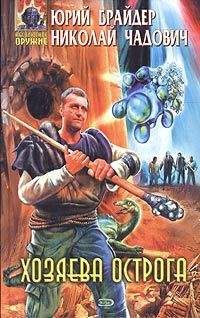Зимовали у Айги.
Сперва никому старались не попадать на глаза.
С самим Айгой подружились, подробно вызнали все известные пути к югу и к западу, в те места, где, по слухам, появляются русские. Вернуться к морю было, конечно, проще — спускайся да и спускайся вниз по реке, но что делать на море без большого припаса? Да и не уйдешь далеко на старой байдаре.
А хотелось уйти.
Иногда сильно хотелось.
Если бы не Иван…
«Хамшарен!.. — Похабин изумленно качал горячей всклоченной головой: — Ох, барин!.».
Как только ни уговаривали Ивана, что только ни говорили, у него ответ был еа все один — рано уходить! Еще не всех дикуюших обьясачили, не со всеми нымыланами свели дружбу, не осмотрели земли, что лежат вдоль реки! Еще даже не проверили необычный слух, что якобы на мысу Атвалык, чуть ли не у родимцев Айги, появился недавно странный человек — выплеснуло его из моря. Строг, бородат, говорит по-своему. Вдруг, думали, это кто-то из своих людей, которые ушли с острова Симусир второй байдарой?… Или кто-то из людей с бусы, уведенной попом поганым Игнашкой?…
— Сипанг!.. — изумленно ругался Похабин. — Нала-коша!.. Пагаяро!..
Если б не баба!
О, если б не баба, давно ушли!
Моргнул изумленно. Вот скоро вернется барин, сильно удивится переменам.
Месяц назад Иван оставил Похабина и маиора в самом простом балагане, а теперь на берегу стояло настоящее зимовье. Пусть тесная, пусть невысокая, но деревянная изба, а не какая-то сырая полуземлянка. Рубить начинали вместе, но довершили дело Похабин и маиор.
А еще больше, сплюнул Похабин, удивится барин другому.
Сойдет на берег, громко крикнет друга сердешного Айгу, а сердешного друга нет, сшел с родных мест друг сердешный и шишиг своих свел с собою. Ну, ни одной не оставил шишиги, и сам не остался!
А как зимовать без Айги?
Да никак.
Похабин изумленно моргнул.
Увидит барин, что остались на реке совсем одни, ни баб, ни Айги, сразу поймет — пора уходить. И не куда-нибудь, а к русским. Пора искать русских на юге или на западе. Не сидеть же всю жизнь среди дикующих! Ох, удивится барин, подумал Похабин, впадая в некоторое сомнение. Как это, дескать, сшел сердешный друг Айга? Как это свел куда-то своих шишиг? Как это свел куда-то меньшую Кенилля — белоголовку с белой прядкой в густых, черных, как сажа, волосах?
Кенилля…
Ужас как ловко выбегала Кенилля из балагана.
Круглая, крепкая, выбегала из балагана, кричала высоким птичкиным голосом, заставляла Ивана вздрагивать. На маленького неукротимого маиора всегда смотрела с испугом, на рыжего Похабина с отвращением, плевалась, воздевала руки к небу, снова пряталась в балаган, нашептывала колдовство на рыбью голову, а потом убегала на речной остров, колдовала на острове над деревянным болваном. Сестрам-простыгам постоянно твердила (Похабин сам слышал), что русские, они как голодные чайки. На Ивана глядит жадно, а сама твердит, что русские, они де всегда не сыты, всегда ищут пищу. Наша еда, олешки, сама на ногах ходит, наша еда, коренья, сама в земле растет, а у брыхтатын, у русских, нет ничего такого, поэтому у них глаза всегда голодные и всегда блестят.
Дивилась.
Люди — разные.
Ительмены, например, лживы, спесивы, много едят, много похваляются. Вот убьем всех, похваляются. Одулы, наоборот, простодушны. Увидят, что тебя комар мучает, из простого простодушия, пожалев, могут тебя убить. Им, к слову, старую собаку легче удавить, чем из урасы ее выгнать. А коряки, наоборот, жестоки. Те коряки совсем как чюхчи, только чюхчи еще жесточе. И русские умеют так смотреть на тебя, будто ты дерево или балаган.
А Иван другим казался.
Кенилля смотрела на Ивана особенно.
Думая так, Похабин изумленно чихнул. Вот край такой!
Ужасные горелые сопки под небо, снаружи покрыты снегом, а внутри, наверное, горячие — дымят, как старые очаги, иногда шум изнутри слышен, треск и будто сильными мехами раздувание, от чего дрожат все ближние места. Лопухи вымахивают в человечий рост, земля заросла травой-шеламайником, в которой, как в лесу, можно потеряться, вода в некоторых ручьях горяча, земля так дрожит, что падают самые крепкие балаганы. Чего ни коснись, все устроено богато, но как бы на короткое время, не навсегда, все как бы на скорую руку. Так бог Кутха работает. И камчадалы от такой его работы — пустобороды, узки плечами, легкомысленны нравом. И веры у них никакой — шаманят. Бьют в бубны, громко кричат. Обувь носят оленью, подошвы нерпичьи, в такой обуви можно долго плясать, а парки у них, зимние балахоны, из нерпичьей шкуры — рукава перехватывают узорами, подолы расшиты.
И всегда камчадалы как бы торопятся.
Даже когда ничего не делают, все равно как бы торопятся.
«Уга! Уга!» — кричат на собак, хотя можно и не кричать. К берегу подплывая, издалека обращают внимание: «Намкын толухтат!» Теплого дня, значит. И Кенилля, ведьма малая, белоголовка, мышеловка проклятая, тоже, как птичка, кричит по утрам: «Намкын! Намкын!» Вернется барин, сильно удивится, покачал головой Похабин. Может, сгоряча схватится за нож. Зачем, дескать, поторопился, зачем поспешил покинуть богатую знакомую реку, зачем сшел со знакомой реки сердешный друг Айга?
А мы так ответим:
«Дела у Айги».
И скажем прямо:
«Пора, Иван. Пора возвращаться в Россию!»
Барин, конечно, скрипнет зубами, но тогда скажет маиор:
«Ты не балуй, Иван. Сшел на нос Атвалык Айга, чтоб взглянуть на человека, будто вынесенного морем к его родимцам. Такова официя. А то вдруг русский? Сам знаешь, как трудно среди чужих одному».
Барин еще раз скрипнет зубами, но официя такова.
2
Похабин сплюнул.
Не сшел пока Айга.
Кричит пока по утрам птичкиным голосом белоголовка Кенилля.
А барин где-то плывет по реке. Месяц назад ушел навестить нымылана Кеку, большого умельца по охоте на красных лис, и вот все плывет, плывет, наверное, скоро вернется.
Не сшел пока Айга.
Задыхаясь, сидит в облаке жгучего пара, заполнившего баню-полуземлянку.
А в таком же облаке сидит перед Айгой маленький, но неукротимый маиор Саплин. Поддаст воды на раскаленные камни, ухнет, укорит Айгу:
— Как так? Сам прямой, а девок рожаешь с ногами круглыми, как колеса.
— То не я… — шипит Айга от жара, пряча хитрые глаза под ладони. — То бабы рожают…
— Ну да, бабы, — соглашается неукротимый маиор. — Ты бы, конечно, других родил!
Сидит Айга, отец шишиг, отец простыг, дикующих девок, прямой родимец ведьмы белоголовки Кенилля, сидит в баньке напротив неукротимого маиора, задыхается от жары, потеет, жадно пожирает жирную пищу, совсем голый, как положено гостю, и неукротимый маиор перед ним — в чем мать родила, как принято среди нымыланов. Известно: решил свести дружбу с нымыланами, поступай как они. А они всегда так поступают.
Похабин сплюнул.
Кенилля, ведьма, нинвит, выглянула из недалекого отцовского балагана, сверкнула черным ведьминым глазом. Будто чувствует, что решают ее судьбу. Сглазила барина, к себе привязала, привязала к дикой земле, засыпанной горами, заросшей лесом, иссеченной многочисленными реками. И он, Похабин, застрял тут из-за ведьмы Кенилля, белоголовки дикующей. И неукротимый маиор Саплин. Бросили бы барина, одни ушли, да жалко — вместе проделали такой путь. Барин — русский, как бросишь?
Изумленно моргнул, отмахиваясь от ленивого комарья.
Слов нет, Камчатка не худший край. Болезней мало, болотной горячки вовсе нет, молнии, правда, часто бьют, но ведь не целят специально в человека. Березка в лесу плотная, черная, а все ж березка. И рябина есть, и черемха. Вся подошва черной горелой сопки — долгая, уходящая вдаль в дымку, поросла черемхой, березкой, упругим ольховником. А другая сторона сопки… Айга не раз говорил, что обратная сторона резко падает в море, такое большое, что даже с гор не видно никаких островов.
«Как не видно? — сердился маиор Саплин. — А те острова, с которых нас пригнало? Неужто и с гор не видно?»
«Ни одного, — уверенно отвечал Айга. — Совсем ни одного».
«А вот ножом ударю!» — сердился маиор.
Айга смеялся на такую шутку, покачивал круглой, как кочка, головой.
Переносица вся иссечена шрамами, будто рубили ее ножом, глаза влажные, черные. По простоте рассказывал все, что знал. Например, рассказывал: горелая сопка круто обрывается в море. Если от ее подножья идти на полночь морем, непременно наткнешься на чюхоч. Такого, правда, никто в здравом уме не делает. Да и спуститься к морю можно только по реке. Через гору тоже никто в здравом уме не ходит — нет там троп, одни болота-ржавцы да заросли стланика.
Ходят по рекам.
Реки на Камчатке как улицы в русском городе.
По берегам — брусника, шикша, жимолость. Встречается еще ягода, что крупней куриного яйца, а на вид зелена, а на вкус — настоящая малина. На деревьях, правда, пусто, никакого овоща нет. И хлеба нигде никакого нет. Ничего такого не произрастает.