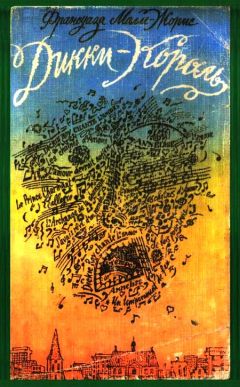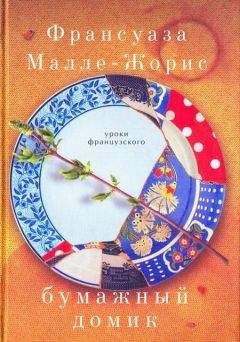Теперь уже и колыбельные. Куда его занесло? Быть может, нехитрая песенка, всплывшая из неведомых глубин памяти, — это знак? Душещипательная история о какой-то безвестной святой, обезглавленной жестоким отцом, порождение наивных народных верований — причем она тут? «Дивный вырос апельсин…» На крови скромной святой, которой, возможно, и не было, должно вырасти дерево, чтобы ребенок успокоился. Но жизнь далека от спокойствия, и это дерево с чудесными плодами — не от мира сего. Только и растут что ядовитые растения, семенами для которых служат трупы повешенных, как эта мандрагора с таинственными свойствами. Только дьявол вмешивается таким образом в дела мира сего. Господь далеко, далеко, и плоды Древа Жизни недостижимы… Так же медленно, как тонет в морской пучине какой-нибудь предмет, спящий погружается во все более глубокие пласты печали и сомнения. Только зло с его простотой способно вернуть ему веру детства, о которой у него сохранялись ностальгические воспоминания. Вот и конец рассуждения, вот причина холодной ярости, которая принуждает его, такого уравновешенного, такого осмотрительного — возможно, обладателя самого свободного ума в то время — изучать гороскопы, с бьющимся сердцем, как у человека, услышавшего о любимом им существе, внимать рассказам кумушек, где фигурирует Сатана. Сатана, ангел падший и потому единственный, кто появляется зримо. Имя любимого существа… И правда, не было бы большой натяжкой сказать, что он любит Сатану, как полюбят его еще более неистовой любовью еще столько судей и палачей. Только любовь может привести к такому варварству. Только любовь проливает столько крови. Жан Боден, оратор, юрист, писатель, — всего лишь одна из тех страстно увлеченных натур, которые хотят, которые умоляют Сатану, чтобы он существовал, которые отдадут ему на заклание многих и многих. Жан Боден будет только писать — с внезапною страстью, которая распаляет холодных, сухих, рассудительных; другие же будут убивать, пытать, никогда не уставая, никогда не пресыщаясь уверенностью, ужасающе искренние и, пока будут сжигать, сжигаемые страстью.
Богэ, откровенный болван, которому отказано в небесной благодати и который может слегка разогреть свою лимфу лишь адскими кострищами; утонченный де Ланкр, любитель рокайлей[10] и музыки, который разорит весь Лабур[11], но так и не утолит свою жажду крови — по сути жажду Бога, ищущую и не находящую, чем насытиться; холодный Николя Реми де Шарм в Лотарингии, похвалявшийся, тем, что за пятнадцать лет сжег более девятисот жертв, с пеной у рта требовал смерти младенцам, которых пытались вырвать из его рук деревенские судьи, произвел опустошений поболее чумы и почил в мире и уважении в родной деревне, переваривая учиненную им бойню, принимая отягченность совести за душевный покой. И множество других ярых, старательных и благонравных, в тиши своих библиотек затачивающих обоюдоострое оружие, готовое поразить других и их самих, навеки спаянных тем, что причастились злу… Эти тоже в своих беспокойных снах, в населенных призраками ночах будут повторять подобно мающемуся бессонницей Жану Бодену: «Они сознаются! Они сознаются!» И подобно любовнику, в бессильной ярости твердящему: «Она любит меня» — и засыпающему с этой жаждой, которой никогда не утолить человеческому существу, будут засыпать и они на протяжении долгих лет во власти страха и надежды; так в конце концов в замке д’Оффэ этой ночью заснет и Жан Боден, тревожимый неясными призраками, что давно уже с ним не случалось (с отроческих лет, когда по ночам он размышлял о Реформации или изучал Каббалу), и все из-за этой женщины: Жанны Арвилье.
«Она сознается, сознается!» Этого только и добивался от нее палач. Бедный, за долгие годы бездействия он потерял сноровку, а ведь и в молодости он не отличался особым мастерством. В деревне над ним подшучивали, вспоминали, как много лет назад, вздергивая на дыбу гугенота, он оторвал ему руку и когда у того началась агония, в растерянности нагнулся к трепещущему телу и закричал: «Ну-ка, вставайте! Нечего прохлаждаться!» С тех пор ему почти не представлялось возможности оттачивать свои способности. Палачи, известное дело, народ добрый, тут он ничем от других палачей не отличался, однако чувство собственной неполноценности делало его угрюмым. Его даже особо не сторонились, как обычно случается с палачами, которые из-за этого приобретают почти трагическую значительность. Но у него действительно было мало случаев отличиться — время от времени ему приходилось вешать бедняка браконьера, но это не в счет. Не получая должных знаков уважения, он невзлюбил свое ремесло. Разумеется, он мог воспользоваться случаем с колдуньей, чтобы выдвинуться на передний план. Однако, не питая относительно себя иллюзий, он лишь показал женщине сверкающие, до блеска вычищенные орудия пытки, всем своим видом говоря: «Желаете испытать?»
Конечно, если она заупрямится… Он здесь на этот случай. Его отвращение не переходило в жалость, хотя он немного ее знал. Нет, ему было все равно. На костре она умрет или от пыток — велика важность! Впрочем, он был почти уверен, что она умрет от его рук, ведь он давно уже не умел дозировать страдание, как его в свое время учили, да и не видел в этом прока. Признания, допросы — все это происходило в ином мире и никак его не касалось. Его дело убивать, он и убивал. Большего с него требовать не резон. «Привет, Жанна», — сказал он все же, когда ее привели. Она всегда разговаривала с ним учтивым тоном, почему он должен поступать иначе? Впрочем, у него всегда было чувство, что она рано или поздно попадет в его руки. Женщина пришла неизвестно откуда да еще с такой красивой девочкой — в результате в деревне возникают осложнения и приходится обращаться к палачу, чтобы с ними покончить. Возможно, и она это знала, как преследуемая дичь знает, что ее в конце концов разорвут собаки, но бежит, потому что так ей написано на роду? Может, поэтому она с ним здоровалась? Как здоровались с ним парни, уходившие в леса, часто красавцы, самые сильные, самые смешливые — ни дать ни взять зайцы с лоснящейся кожей, сверкающим взглядом, а потом в охотничьей сумке или на виселице куда все девается: мешанина из перьев и шерсти, выцветшей, выброшенной и убогое, дряблое, раскачивающееся на веревке тело. При мысли об этом палач испытывал грусть, некое чувство — не жалости, не сожаления, скорее поэтическое, как у охотника, когда он берет еще теплого зайца за уши и некоторое время его разглядывает, удивляясь, что так легко угасло сверкающее пламя жизни… Но разглядывает недолго, после чего бросает тушку в охотничью сумку и снова принимается за охоту. И он, палач, наблюдая за смертью браконьеров, с некой изящной грустью пожимал плечами и затягивал петлю для ближнего, просовывающего туда голову. Так, хотя приговор еще не вынесен, поленья для Жанны он уже припас загодя, ведь на это нужно время, а не успей он потом, опять его нарекут неумехой. «Привет, Жанна». То же самое он скажет и в день ее казни. Не тая злобы, не чувствуя отвращения. Все эти россказни про колдовство, как и про браконьеров, его не касаются. Ему эта женщина ничего не сделала.
— Значит, ты меня будешь пытать, — сказала она.
— Без этого нельзя, — сказал он с некоторой досадой (с этими женщинами держи ухо востро, и потом он опасался, что с Жанной не оберешься неприятностей. Был у него помощник, сын ризничего, он был очень силен, но и простоват, потому его и выбрали, но все-таки он ребенок и как бы не растерялся).
— А если я во всем сознаюсь?
— Так будет лучше. Намного лучше. А то для меня разницы нет — женщина, не женщина. Во мне все заскорузло… Если ты сознаешься, я проверну дело как надо, устрою большое пламя, сам встану сзади с кожаным шнуром и как только задымит, задушу тебя, никто и не заметит, так что отделаешься быстро.
— И все будут довольны, — злобно выдохнула она.
— А почему бы и нет?
Действительно, почему. Вот и стражник сердится, он хотел бы пойти поесть, в замке кормят уже не так сытно, а между тем ему слышно, как вверху, на кухне хлопочут…
— Ну вы идете?
Стражник говорил «вы». В его сознании они были как бы соединены. Колдунья, палач — одна компания. Лучше поменьше с ними обоими иметь дело. Сам он из Сен-Квентена, крестьян этих не знал. Пусть уж они сами между собой разбираются.
— Вообще-то я хотел перекусить.
— И перекусите, — подхватил палач. Ему тоже хотелось избавиться от стражника, ведь тот, должно быть, насмотрелся на пытки в других городах. Если стражник примется высматривать да наводить критику, он растеряется — палач себя знал хорошо — и переборщит, и Жанна того… Опять над ним будут смеяться. Не любил он этого.
— Ладно. Если вы не против. И потом, если начистоту, эти штуки мне всегда портят аппетит. Глупо, правда? Если она сознается, надо будет предупредить там наверху и прекратить пытки. Только без шуток, ладно? Если она окочурится, не сознавшись, а там узнают, что я оставил вас вдвоем, у меня будут неприятности.