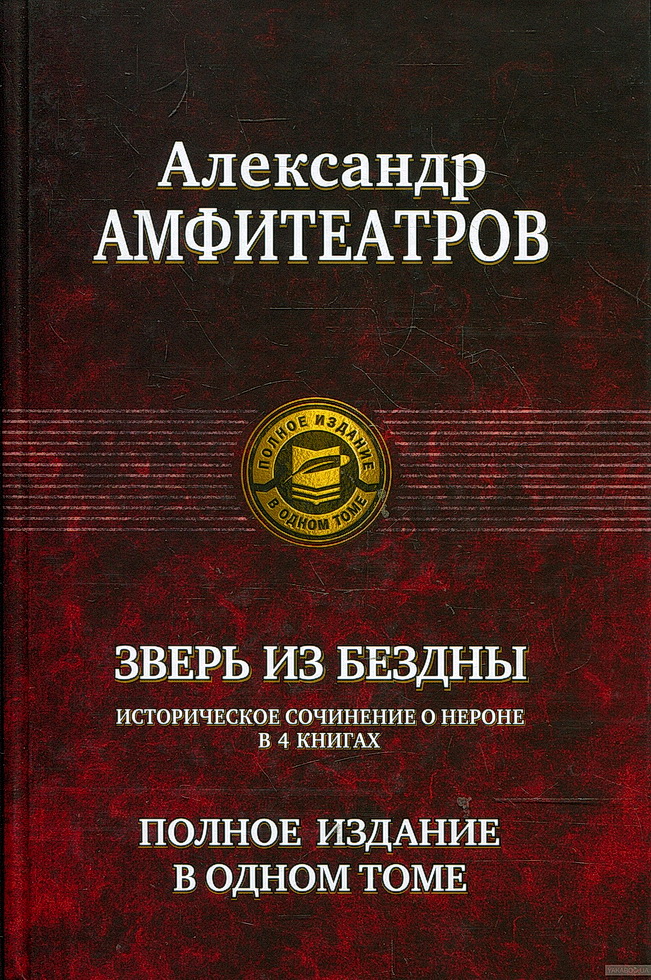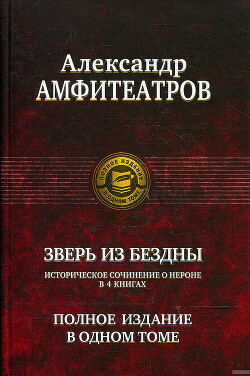в гроб, а в колыбели лежит и кричит новорожденная цензура, что в этом монахе-критике — семя будущих инквизиторов, что огонь его нетерпимых негодований — первая искра, которая некогда разгорится по всей католической Европе кострами еретиков.
Ученый, но суеверный, наполненный теориями, легендами и предрассудками трех своих последовательных религий, — языческого синкретизма, среди влияний которого прошла его первая юность, манихейского дуализма, с которым он расстался на тридцатом году, и монашеской ортодоксии, — сознательный демономан и бессознательный дуалист, Августин запутался в кругу своих доказательств против астрологии и — как все инквизиторы, кончил тем, что, разрушая авторитет науки, упрочил ее более, чем кто-либо. Он ее проклял, но признал ее наличность и возможность. Он объявил чтение будущего — откровением демонов, но — откровением. Буше Леклерк основательно заключает:
«Это значило отрекомендовать астрологию язычникам, для которых демоны Августина были боги, не отпугнув от нее христиан, которые, как присциллиане (в них-то, собственно, и метил Августин), сокращали области демонского влияния, поселяя на планеты ангелов, а на созвездия Зодиака патриархов, и, таким образом, как бы освещали старую астрологическую утварь, заношенную язычеством, в новую христианскую пригодность».
Итак, христианской полемике также мало удалось истребить астрологию, как и полемике философской. Более того: кафолическое христианство не решилось даже обрушиться на звездную науку какой-либо общей, принципиальной мерой. На Востоке церковь держалась по этому поводу довольно нейтрально: рассматривала астрологию, как более или менее спорную часть астрономии, и предоставляла ее личному убеждению каждого, разумеется, в тех ограничительных размерах, которые выработала полемика оригенистов. На Западе авторитет Бл. Августина и борьба против манихеев и присциллиан дали ход и господство идее, что астрология одна из форм магии, идольская религия, для которой боги — демоны, живущие на планетах и деканах Зодиака; мать всех видов чародейства, в приложении к медицине, химии, а вернее сказать, ко всем путям, открытым человеческой мысли и деятельности. Но никогда и никто не решился объявить магию и астрологию пустыми химерами. А потому астрология, вопреки всем полемическим громам, вошла в средние века, как уважаемая и господствующая отрасль астрономической науки, а эта последняя — как служанка, обязанная доставлять ей данные для ее вычислений. Тайна непобедимости астрологии скрывалась в том, что она, кроме великого соблазна предвидением будущего, имела то громадное преимущество перед всеми почти знаниями древнего мира, что не была голым умозрительным словесничеством, но, хотя и самообманно и криво, имела внешние признаки науки опытной; идущей, хотя по путям ложным и под бременем суеверий, но — как будто к какому-то положительному знанию; работающей над наблюденным материалом, а не над голой гипотезой. Общество чувствовало, что, из всех доступных ему философских знаний, одна астрология — пусть слепо и неудачно, потому что с глазами, завязанными традицией метафизических догматов и методов, — но, все же, — одна она вертится вокруг да около биологической тайны и ловит природное начало жизни не только словами, но и фактами. То был призрак, более того: призрак искусственный и сочиненный, — но непобедимый, потому что служебный союз астрономии и вековое опытное накопление давали ему средства к материализации, перед наличностью которой диалектика врагов его расседалась туманами привидений, еще более бледных и бессильных. Призрачность астрологии могли понять и принять только те века, которые осветились настоящим астрономическим знанием. Движением земли и недвижностью солнца Коперник спутал нити астрологической сети, и она обратилась в бессмыслицу. И, как всякий призрак, освещенный солнцем, растаяла с поразительной быстротой. Заклинания церкви и аргументы кафедры шли астрологии только на пользу. Эта удивительная дочь могла погибнуть только от руки своей матери. Обсерватория породила астрологию, обсерватория и убила ее. Тысячи лет философских споров и религиозных преследований бессильны были нанести ей хотя бы одну серьезную рану. Опыт положительной науки спокойно и мирно истребил ее в какие-нибудь сто лет.
Итак, Нерон стал римским государем. Посмотрим теперь, что заключалось в сане, им захваченном? какой объем и какую энергию власти получил он в свое распоряжение? как уравновешивались в ней обязанности, если были таковые, и права?
В 27 году до Р. X. старая аристократическая республика в Риме, уже давно номинальная, официально уступила место режиму, научно называемому принципатом, а по неточному и неудобному для его первого века, но общепринятому определению, выросшему в приблизительных аналогиях позднейшей политической практики, — империей. Уже задолго до того партии работали наперерыв над разрушением старых свобод, выкованных, как железо между молотом и наковальней, многовековой борьбой Рима-села с Римом-городом; кондового местного землевладельчества патрициев, «отцовских сыновей», с пришлыми населениями безземельного и малоземельного плебса; олигархических привилегий знати, то есть класса богатых и именитых мужиков-мироедов, с вольнолюбивыми стремлениями нового народа, который решительно не желал закабалиться мироедам в батраки, но упорно требовал себе от общины земельного права и гражданского равенства. В смешениях борьбы этой, с веками, потерялся самый предмет ее. Село давно переродилось в «вечный город», государство-город завоевало Италию, поползло захватом по Европе, перекинулось в Азию и Африку, обвело кольцом Средиземное море и сделало его римским озером. Правящий центр государства-гиганта перестал быть земледельческим и кормился житницами заморских провинций. Войны развили, с поражающей быстротой и в такой же удивительной громадности, институт рабства, и в нем притупился старинный острый интерес к рабочим рукам. Старый спор о пахотях, которых первая граница была уже на пятой миле от Палатинского холма, сделался спором владык мира о системе его хозяйства, о роли в его управлении, о политических прерогативах. Древние свободы, сосредоточенные в руках меньшинства, составленного из знати по роду и цензу, обратились для большинства в несносное иго сословных привилегий, пережитков, обессмысленных переменившимися временами, призраков, от которых пахло разложением и заразой мертвечины. Конституция общины, выработанная на мирских сходках для прекращения соседских ссор и в интересах мирного крестьянского общежития, вылиняла и одряхлела в могучем государстве, сложная система которого, обреченная на великую цивилизаторскую миссию, уже нащупывала ее инстинктом своим и, мало-помалу, идя по военной дороге, перешла в международность. Назревало такое время, что Рим, удушаемый собственной силой, должен был пустить себе кровь. Его чудовищное расширение не могло больше удержаться в узости старо-республиканских форм и требовало решительной, во что бы то ни стало, реформы. Какой? Любовь Рима к республике, конечно, отвечала: республиканской же. Но республиканская реформа, должная охватить державством своим народы от Атлантического океана до Сирии, требовала, если прикинуть ее на наш современный политический взгляд и опыт, федерального парламента