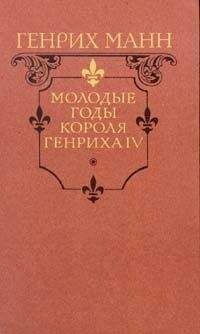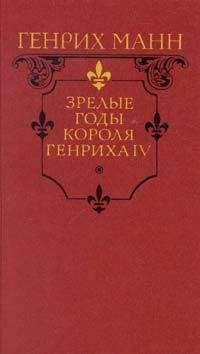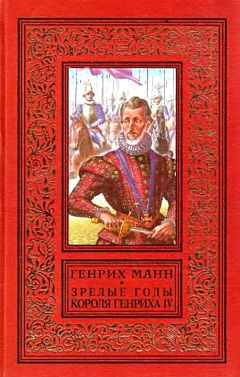Он узнал голос, а теперь увидел и лицо Агриппы. — Где ты пропадал весь вечер? — спросил Генрих.
— Все время был подле вас и вместе с тем оставался для всех незримым.
— Тебе из-за меня пришлось прятаться, бедный Агриппа.
— Мы сами сделали наше положение как нельзя более тяжелым.
Генрих знал это древнее изречение и повторил его словами латинского поэта. Услышав их, Агриппа д’Обинье вдохновился и начал длинную фразу, однако произнес ее слишком громко для столь позднего часа и столь опасного места: — У вас вовсе нет охоты, сир, ожидать в бессилии, пока ярость ваших врагов…
— Ш… ш… ш… — остановил его Генрих. — У некоторых стен здесь есть скрытое эхо; и неизвестно, у каких именно. Лучше мы скажем все это друг другу завтра, в саду, под открытым небом.
— Будет слишком поздно, — прошептала голова, которая теперь оперлась подбородком на край кровати. — К утру нас уже не должно быть в замке. Сейчас или никогда. То, чего мы не сделаем тут же, нам позднее уже не удастся. Сегодня замок Лувр еще охвачен смятением после ужасов прошедшей ночи. А к завтрашнему вечеру люди придут в себя и прежде всего вспомнят о нас.
Оба помолчали, как бы по безмолвному соглашению. Генриху надо было обдумать все сказанное другом. Агриппа же отлично понимал одно: «Если Генрих не скажет «да» добровольно, прежде чем я открою свои карты, этого «да» он уже не скажет вовсе, время будет упущено». Поэтому голова, видневшаяся над краем кровати, покачивалась и дрожала. И наконец проговорила:
— В беде лучше сразу рискнуть всем!
На этот раз Генрих не узнал стиха, во всяком случае он не подхватил его. Вместо этого он пробормотал:
— Они мне повесили карлицу на шею. Они катались от хохота, когда я с карлицей на загривке мчался по опустевшим коридорам Лувра.
— Этого я не видел, — прошептала голова. — К тому времени я уже успел забраться под кровать. Однако я понимаю, что история с карлицей вам понравилась. Вы желали бы побольше таких историй. Потому-то у вас и нет желания бежать.
— Не забудь эхо! — предостерегающе напомнил Генрих.
И тут мудрая голова заговорила — разве не другим, совсем другим голосом заговорила она? Удивительно знакомый голос, только сначала Генрих не совсем уяснял себе, кому он принадлежат. «Это же мой собственный голос!». Он понял это вдруг совершенно отчетливо. Самого себя, — впервые за всю свою жизнь, — самого себя слышал Генрих говорящим вне собственного тела.
— У меня нет ни малейшего желания ждать в полном бессилии, пока они заколют и меня. Поэтому я решил до конца покориться им, настолько, чтобы все мои протестанты презирали меня и чтобы я уже ни для кого не представлял опасности. Я произнесу отречение. Я пойду к обедне, напишу папе униженное письмо…
— Не делай этого! — ответил Генрих, как бы умоляя самого себя.
— Письмо, полное унизительной покорности, и читать его будет весь мир, — отозвался его собственный голос. Агриппе, этому прирожденному актеру, пришлось, видно, немало поупражняться, чтобы научиться подражать Генриху с таким мастерством.
— Нет! — неосторожно воскликнул Генрих, испугавшись этих слов так, как будто они были сказаны его собственными устами. Однако через немного дней ему предстояло действительно произнести их, больше того: осуществить на деле.
— Эхо! — предостерегающе бросила ему голова и тут же продолжала обманным, весьма тревожащим Генриха голосом: — Или лучше сразу рискнуть в беде головой? — Она сказала эти слова по-латыни.
— Но ведь это всего лишь советы стихотворцев! — неодобрительно возразил голос самому себе. — Братец Франциск, чего ты хочешь? Мне бы только остаться в живых.
— Это ты тоже слышал? — спросил настоящий Генрих. — Такому перевертышу я не могу отдаться в руки.
— А вот он отдался мне в руки, — заявил голос-двойник. — И он не единственный, кто хочет бежать вместе со мной и поднять в стране восстание. Он повсюду кричит о том, что даже не знал о Варфоломеевской ночи. Другие молчат, но боятся они ничуть не меньше. Почему это я должен перечислять для эхо всех тех, кто мне предлагал дружбу и поддержку? Только двух я назову, ибо их носители не заслуживают ни малейшей пощады.
— Это… — Генрих торопил, задыхаясь, свой собственный голос.
— Это… — продолжал голос, — господа де Нансей и де Коссен. Они боятся, как бы королева-мать не приказала их убить: ведь тех, кто служил орудием, частенько устраняют. Оба негодяя будут за меня, это только вопрос денег.
— Spem pretio non emo[16]. «He плачу за надежду наличными», — отозвался настоящий Генрих. Однако у подставного уже был готов ответ из классиков: — «Пусть истина простой, бесхитростною будет». — Затем пояснил: — Самый понятный язык для подобных господ — это звон и блеск золотых монет. Я не сидел сложа руки и приготовил кошелек с золотом. Не успеет забрезжить день, как кошелек будет вручен кому следует на мосту у ворот. И тогда они широко распахнутся и выпустят меня. Эти двое сами пойдут со мной, и немало других примкнут к нам. Я стану сильным, и никто не остановит меня.
Настоящий Генрих все же сказал себе: «Я не плачу за надежду наличными». Но понимал он также и другое: слишком многое было уже начато и подготовлено, слишком многие в это посвящены. Потому-то он и сказал «да, я хочу» и сделал все, чтобы ответ его не прозвучал нерешительно или слишком поздно.
Ночная затея кончилась плачевно, и ее единственным результатом было то, что Генрих и Агриппа некоторое время дулись друг на друга. Они прокрались в Луврский колодец, когда рассвет еще не наступил; там они стали ждать вместе с другими закутанными фигурами, предпочитавшими остаться неузнанными, ибо каждый не доверял соседу. В караулке под воротами дремотно теплился красноватый свет, и несколько раз в городе начинал звонить колокол — низкий, гулкий его звук еще стоял у всех в ушах после недавней резни. Но, может быть, именно сейчас этот звон и спас немногих собравшихся во дворе гугенотов, которые не открывали себя и не шли под ворота. Поэтому, как только начало светать, капитану де Нансею пришлось пройти во двор самому. С ним был его приятель де Коссен, и они прежде всего предоставили д’Обинье сунуть им кошелек с деньгами. Тогда они заявили, что кони оседланы и стоят за воротами: пусть господа идут на мост первыми, а они не замедлят к ним присоединиться.
И все-таки Генриху не хотелось вступать впереди всех в тесную подворотню — уж очень она напоминала западню. Пришлось идти обоим предателям. Вдруг кто-то преградил им дорогу: — Господа де Нансей и де Коссен, я арестую вас! Вся очевидность говорит за то, что вы подкуплены и хотели дать гугенотам возможность бежать. — Тут же началась свалка; в бледном свете зари трудно было разобрать, кто с кем дерется, пока чья-то рука не схватила короля Наваррского за руку: оказалось — д’Эльбеф. Этот молодой человек из Лотарингского дома и был тем, кто заявил, что арестует предателей. Он принялся убеждать короля Наваррского: — Вспомните, ведь я когда-то старался оттащить вас от ворот — и очень вовремя. — «Он, бесспорно, прав. Варфоломеевской ночи никогда бы не было, если бы я его послушался. Теперь-то я понимаю!» Так говорит себе Генрих, он верит дружеским чувствам этого юноши, хотя д’Эльбеф и принадлежит к дому Гизов. Он берет под руку нового друга. А старый друг Агриппа, прихрамывая, плетется сзади, ибо в свалке и его слегка помяли. Генрих указывает на него:
— Вон умник, который заманил меня в ловушку. А деньгами эти два негодяя, наверное, с ним поделятся. Знаю я гугенотов.
— Особенно вероломны и неблагодарны гугенотские государи, — заявил бедный Агриппа, пораженный в самое сердце столь чудовищным подозрением. Он тут же остановился, а те двое продолжали свой путь.
— Сир, — предостерегающе обратился д’Эльбеф к Генриху, опиравшемуся на его руку, — не давайте гневу затуманить ваш ясный разум. Бедный Агриппа поступил необдуманно, он был слишком доверчив. На будущее и то и другое возбраняется как вам, так и вашим друзьям, а потому и мне. Каждый день придется нам отвращать какую-нибудь беду, которая нависнет над вами. На этот раз вам повезло. Но могло случиться и так, что оба предателя, подняв крик и шум, схватили бы вас на мосту. Они надеялись, что королева-мать им простит их великие услуги в ночь резни и они смогут спасти свою жизнь.
— Это верно, — согласился Генрих. — Сейчас в Лувре есть только два способа сохранить ее: или бежать, или выдать меня. Об этом мы должны помнить каждую минуту.
— Да, неизменно, — повторил д’Эльбеф.
В этот же день Генрих заметил, что д’Алансон избегает его. Причиной был его неудавшийся побег, а среди закутанных фигур наверняка находился и Двуносый. Тем неуязвимее он был: всякий отвечает за себя, а мое дело сторона.
Господа де Монморанси состояли в родстве с адмиралом Колиньи. Но они были католиками и поэтому достаточно влиятельны при дворе, чтобы уже теперь заступиться за протестантов, за их жизнь и веру. И при создавшемся положении они делали все, что было в их силах. Маршал неизменно ссылался на мнение всего мира о Варфоломеевской ночи, которая как-никак, а имела место. Но играть на этом можно было лишь до тех пор, пока не поступили вести из Европы, и уже самое большее — пока длилась первая вспышка негодования. Оказалось, что возмущены более отдаленные страны, вроде Польши, и более слабые — протестантские немецкие княжества. А Елизавета Английская подошла к событиям столь по-деловому, что стало ясно: она в таких начинаниях кое-что смыслит. Поэтому на ее счет мадам Екатерина скоро совсем успокоилась. Отчасти всерьез, отчасти из какого-то дерзкого задора она даже порекомендовала своей доброй приятельнице устроить на своем острове такую же резню, — конечно, среди католиков.