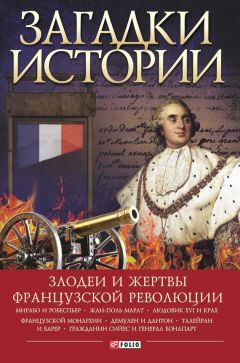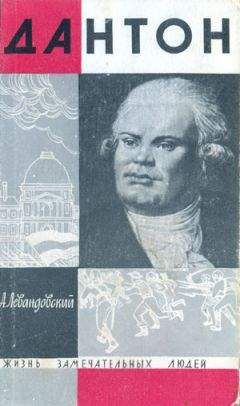Тут-то и оказалось, что готовы все – солдаты, генералы, старейшины – все, кроме Бонапарта. Он отправляется к старейшинам, где произносит очень плохую речь. «А конституция? – кричат ему из меньшинства. – Вы говорите, что существует заговор? – назовите заговорщиков!» Большинство Совета настроено доброжелательно, но все-таки пытается у него узнать: какие же «кинжалы» и «коршуны» угрожают Франции? А он им в ответ: «Бог войны за меня» – тут его подвела слишком хорошая память; такие фразы в Египте шли «на ура», но в просвещенной Франции ждали чего-то более конкретного.
Но в Совете пятисот его дела пошли еще хуже. Там требуют объявить Бонапарта вне закона. «Как, вы хотите, чтобы я объявил вне закона своего брата?» – спрашивает президент Совета. «Ваш брат изменник!» – кричат ему. Генерал Бонапарт бледен как стена: никто еще не забыл, как постановление «вне закона!» привело на гильотину самого могущественного человека Франции и тогдашнего покровителя Бонапарта Максимилиана Робеспьера. Стоящий рядом с ним Талейран, хотя тоже бледноват, но внешне спокоен: этот азартный игрок, страстный картежник сделал крупную ставку и готов играть до конца.
Но тут заговорщикам повезло. Вместо того чтобы ставить на голосование «вне закона», депутаты решают, что каждый из них должен – поименно! – принести присягу на верность конституции.
Наверное, они вспомнили историческую «клятву в зале для игры в мяч». Как обычно, историческую аналогию применили не вовремя. Пока каждый депутат подымался на трибуну и произносил полный текст, ушло несколько часов. За это время заговорщики вполне могли навязать все свои решения Совету старейшин и поставить «пятьсот» перед фактом. Вместо этого Бонапарт решает все-таки выступить в Совете пятисот.
Зачем – не очень ясно. Казалось бы, он уже убедился, что толком выступить не может и перед доброжелательной аудиторией… Но надо быть справедливым. Наполеон Бонапарт был человеком, одаренным необычайно щедро. Если даже ограничиться умением общаться с людьми – он прекрасно умел командовать солдатами, от роты до армии, он мог в беседе обольстить и добиться всего, чего желал, почти от любого собеседника. Нельзя же требовать всего! Бонапарт был беспомощен перед собранием депутатов…
Но ему не дали времени проявить свою бестолковость. Он просто не успел добраться до трибуны. Возмущенные депутаты с криками «Это беззаконие! Долой диктатора!» кинулись на него. Щуплого генерала хватают за шиворот, пихают в спину… Позже Бонапарт (точнее, его пресса) уверяла, что его хотели убить в Совете. Это чепуха. Если б хотели, то и убили бы, несколько минут он был вполне в их власти, да и возможность была, поскольку многие депутаты имели привычку носить при себе оружие. У них не было такого плана – это были просто рассерженные, даже разъяренные люди.
Гренадеры кое-как вытащили генерала из зала, и он кинулся к Сийесу: «Что делать? Они хотят объявить меня вне закона!» – «Они сами поставили себя вне закона», – хладнокровно ответил бывший член Конвента, который видал и не такие бури. Он посоветовал двинуть солдат, Бонапарт все еще колебался: план 18 брюмера, как и план декабристов, предполагал не военные действия, а одну лишь демонстрацию силы. Декабристам это стоило поражения, здесь заговорщики все-таки взяли верх, но все висело на волоске.
Наконец найден приемлемый план: за Люсьеном посылают десяток гренадеров, которые вытаскивают его из зала. Теперь можно представить солдатам дело в таком виде: здесь президент Совета пятисот и здесь же генерал Бонапарт, которому поручена охрана этого Совета; а в зале небольшая шайка терроризирует большинство Совета, надо эту шайку разогнать. На это солдаты пойдут, такое бывало не раз. Действительно, на это солдаты пошли – они двинулись в зал. Обошлось без крови, разве что несколько разбитых носов. Нескольким депутатам пришлось прыгать из окон первого этажа, остальных вытеснили из зала, но затем пошли их ловить: хотелось придать перевороту законность. Наловили несколько десятков, и те депутаты, которые имелись в наличии, наконец принимают декреты: назначаются ТРИ КОНСУЛА (Бонапарт, Сийес, Роже-Дюко) и две комиссии по 25 человек из числа членов Советов для выработки новой конституции.
Народ кричал: «Да здравствует Республика! Да здравствует Бонапарт!» Солдаты, разогнавшие депутатов, тоже думали, что они спасли Республику, и на обратном пути в Париж во все горло распевали революционные песни.
Переворот, пусть и со скрипом, но удался, и во главе государства встали двое: генерал Бонапарт и бывший директор Сийес, к которым для ровного счета добавили Роже-Дюко. Сийес пишет новую конституцию (наконец-то дошла его очередь!), если когда-то он был сторонником народного суверенитета, то десять лет революции решительно изменили его взгляды: теперь он предлагает формулу: «Доверие должно идти снизу, власть должна исходить свыше».
…Ничего не напоминает? А ведь очень похоже на формулу, которую примут через несколько десятилетий русские славянофилы-монархисты: «сила власти – царю, сила мнения – народу».
Между прочим, победители 18 брюмера нарушили традицию, согласно которой день переворота объявлялся великой победой Народа, и потому становился национальным праздником. Соответственно, праздников за последние 10 лет набралось множество: такими были и 14 июля (день взятия Бастилии), и 10 августа (свержение монархии), и 21 января (казнь короля), и 9 термидора (падение Робеспьера), и 18 фруктидора (еще один удачный переворот), и еще 3–4 подобных «дня». По новой конституции, все эти праздники были отменены: оставлены только два – 14 июля и День провозглашения Республики (22 сентября 1792 года, или начало года – 1 вандемьера по новому календарю).
Согласно новой конституции Бонапарт стал главой исполнительной власти (Первым консулом), Сийес же – главой Сената, т. е. законодательной власти. Вроде бы справедливый дележ…
Однако реальная власть очень скоро оказалась в руках Бонапарта. Прежде всего он забраковал первый вариант конституции, написанный Сийесом, по которому главе государства (на эту роль предназначался конечно же Бонапарт) давалось великолепное содержание, но не давалось достаточной власти. «Я не собираюсь играть роль откормленного борова, – заявил он, – если вы хотите такую конституцию, ищите себе другого». Шантаж удался, Сийес отступил, и вскоре он отходит на вторые роли. «Сийеса, – говорил Бонапарт… нет, уже не Бонапарт, а Наполеон… позже, – расстроило, что я похоронил его метафизические идеи, но он понял, что необходимо, чтобы кто-то правил, – и предпочел меня другим».
И согласно окончательному варианту конституции, вся исполнительная власть передавалась трем консулам, назначаемым Сенатом на 10 лет; но роль второго и третьего консулов сводилась к участию в обсуждении и, если угодно, записи особого мнения, решения же принимал Первый консул единолично.
Бонапарт был фантастически популярен в тот момент. Как сообщила «Французская газета» от 26 фримера, «Конституция провозглашена 24-го числа во всех округах Парижа. Одна из женщин, прослушав ее, сказала: „Я ничего не разобрала“. – „А я, – сказала ее соседка, – не проронила ни слова“. – „Ну, что же там сказано?“ – „Что у нас есть Бонапарт“».
Да, для очень многих, вероятно, для большинства, самым ценным было одно: «У нас есть Бонапарт». Люди, разочаровавшиеся в короле, в Генеральных Штатах, в Конвенте, в Директории, еще раз нашли своего героя, чтобы возложить на него надежды.
Были, конечно, и более осторожные люди, которые пока что видели в «дне» 18 брюмера только еще один переворот. Вот что писал, с изрядным скепсисом, один из таких людей своему сыну:
«Не велико геройство заставить выскакивать в окна стадо депутатов и штыками вырвать власть у людей, совершенно лишенных военной силы и не стоящих под защитой общественного мнения. Тот, кто, как Кромвель, изгнал ораторов и демагогов, должен уметь царствовать, как он. Кромвель брал в руки бразды правления в государстве, на которое никто не мог напасть извне. Там не было даже зародыша войны с иноземцами. А внутренние фракции он хорошо изучил и привык иметь с ними дело. Армия вся была за него, притом армия, уже 4 года игравшая самую видную роль в революции. Здесь ни одно условие не совпадает, и если через месяц не будет заключен мир, никакие заискивания не помогут, и герой падет, покрытый смехом, если не стыдом.
За обманутые надежды мстят ненавистью, презрением, унижением. Это идет непрерывно вот уже 6 лет. Всем совершателям переворотов воскуряли фимиам, пока думали, что учиненная перемена всем пойдет на пользу. Сколько похвал расточали этому гнусному Тальену, обрызганному кровью сентябрьских убийств, пока верили, что 9 термидора принесет с собой порядок, мир, справедливость – и как потом все это выместили на нем! Даже у Мерлена, после 18 фруктидора, разве не было приверженцев, и очень искренних? В нашей революции всегда достаточно было прогнать кого-нибудь и сесть на его место, чтобы завоевать общее расположение, по крайней мере, на 2 недели. Главное не в этом, а в том, чтобы удержаться, довести драму до развязки с честью и пользой для себя и к выгоде других. Эта задача еще не решена, и я желал бы, чтобы Б., окруженный метафизиками в политике и учеными светилами Института, дал нам эту, столь желанную, столь долгожданную развязку. Но я не надеюсь на это в такой мере, как другие известные мне лица, – и потому, что я измерил трудности, и потому, что я не ставлю этого человека так уж высоко, как его восторженные поклонники».