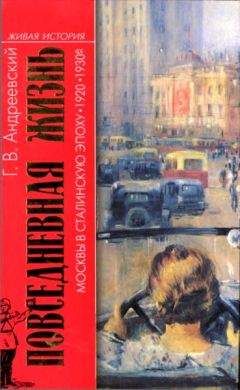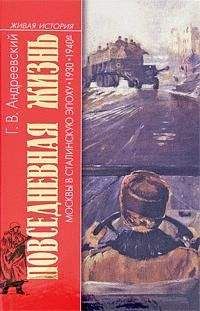Остаться нетленным! Это ли не доказательство святости в глазах православных?! А могут ли быть грешны апостолы, стоящие на мавзолее? После смерти и Сталин стал нетленным и лег рядом с Лениным. Я его видел. Он был в маршальском мундире, при орденах. Для нас это не было чудом. Наоборот, это было естественно, что любимые вожди лежат, как живые, рядом. А тогда, в середине двадцатых, для многих это было чудом. На улицах Первопрестольной еще валялись трупы лошадей, да и трупы людей на улицах москвичи еще не забыли. В 1918 году газеты печатали «скорбные списки», в которых перечислялись люди, убитые на улицах и доставленные в морги. Их имена вычитывали родные в столбцах газет. А сколько было таких, про которых никто так и не узнал! Вообще всякая смерть ужасна, а смерть на улице, безвестная, как у собаки, страшна вдвойне.
Души непогребенных по-человечески взывают к совести оставшихся в живых.
Побывавший в 1932 году в Екатеринбурге М. Москвин в книге «Хождение по вузам», вышедшей в Париже, рассказал о посещении музея в доме купца Ипатьева, в котором произошел расстрел царской семьи. Он пишет: «…часть комнат реставрирована и показана в том виде, как при царской семье. В стеклянном шкафчике оружие. Табличка на шкафчике гласит: «Револьвер и шашка рабочего Верх-Исетского завода Матросова, приведшего в исполнение приговор Екатеринбургского Совета рабочих депутатов над царской семьей»». Об участии в расстреле Юровского ничего не сообщалось. Власти понимали, что это подогреет антисемитизм. Хватит одной Каплан, стрелявшей в Ленина.
Прошло много лет, у большевиков было достаточно времени, чтобы захоронить останки расстрелянных. И место захоронения известно, и белочехи не наступали, и о восстановлении монархии в России речь не шла, да и царской семьей семья Романовых (не говоря уж о их домочадцах, расстрелянных вместе с ними) не являлась: царь отрекся от престола и за себя, и за наследника. Но никаких мер принято не было, во всяком случае об этом ничего не известно.
Уважение к покойным — непременное условие человечности. Так, по крайней мере, заведено в обществе, не исповедующем людоедство. Впрочем, есть и у нас, нелюдоедов, занятие, претендующее на владение телом усопшего. Занятие это — изготовление скелетов. Занимался им в двадцатые годы в Москве некий Иван Ипатич. Так, по крайней мере, звали его те, кто знал.
Представьте: медицинский институт, в белом кафельном анатомическом зале, где у трупов, как белые черви, копошатся студенты, в уголке находится маленький столик вроде сапожного верстака. «Это, — рассказывал в 1926 году Иван Ипатич, — моя мастерская, где я подготавливаю скелеты к сборке. А начинается все с мацерации, то есть с вымачивания частей тела. Она происходит в подвале». Там, в подвале, запах еще удушливее, чем в анатомичке. Мертвецы лежат на каменных скамьях. В отдельной кладовой стоят большие чаны и высокие глиняные горшки. В них, под крышками, полтора года мокнут части человеческого тела. «Когда мясо отделится от костей, — рассказывал далее Иван Ипатич, — кости белят хлором. Для того чтобы окончательно уничтожить запах, их сушат на солнце, потом собирается скелет». «Скелетист» разъяснял, что не всякий человек годен на скелет. После того как студенты «обработают» покойников, он отбирал на скелеты молодых, а старых отправлял на кладбище. Это делалось потому, что у молодых кость крепкая. За свою трудовую деятельность, а проработал он тридцать пять лет, Иван Ипатич сделал шесть тысяч скелетов (по двести в год). Его «выпускники» разошлись по школам, институтам. Беспомощные перед юными оболтусами, они равнодушно зажимали челюстями вставленные папиросы и приветствовали живых поднятыми костями кистей.
Скелет является самым долговечным памятником человеку, его носившему и на него опиравшемуся. Лишил его этой привилегии только крематорий, построенный в Москве в 1927 году. Жару в девятьсот градусов скелет не выдерживал. Первыми (для опыта) сожгли двух женщин, умерших в больнице. Первым, сожженным официально, стал рабочий Мытищинской водопроводной станции Ф. К. Соловьев, скончавшийся от воспаления легких.
Интерес к сожжению трупов возник у московского руководства еще в 1925 году. Именно тогда в Москве был заложен завод по сжиганию мусора и устроена выставка по сжиганию трупов в разных странах. А в 1926 году в Москву из Германии привезли две печи для крематория. Сооружение этого предприятия вызывалось необходимостью. С одной стороны, в городе росли население и смертность, а с другой — тридцать два кладбища, на десяти из которых захоронения были прекращены, занимали очень много места —72 гектара. К тому же одним махом кладбище не уничтожишь, нужно время. Тление продолжается семь — десять лет, а в сырой земле так все тридцать, а ведь только после его завершения можно что-то делать на месте кладбища. То ли дело крематорий — два часа и от человека остается один-два килограмма фосфорнокислого кальция. Положил в урну, закопал — и порядок.
Но вернемся к живым. Сколько смелых, отчаянных мыслей копошилось в их головах. Они хотели к 1940 году построить Волго-Донской канал, провести железную дорогу через Гималаи, построить в Москве, в Охотном Ряду, Дворец труда. В нем должны были разместиться аудитории на сто, тысячу, четыре и восемь тысяч человек. На крыше — ангар для аэропланов, радиостанция, световая реклама.
В выходившем в Москве журнале «Культурное строительство» за 1929 год излагались мечты о Москве 2029 года. Предполагалось, что над Москвой из стекла или из другого, более нежного материала будет возведен купол. Он будет укрывать город от дождя и снега, а в хорошую погоду — убираться. Когда будет жарко, жители столицы смогут на специальных подъемниках подниматься на такую высоту, на которой им будет прохладно. Там будут оборудованы места для отдыха. Внедрение в жизнь телеаппаратов позволит москвичам не ходить в гости и на деловые свидания, а встречаться, с кем они хотят, не выходя из дома, и тогда на улицах и в транспорте станет меньше людей. Самолеты будут летать из Москвы во все части света!
Авиация уже тогда входила в жизнь и становилась символом социалистического строительства. В 1924 году Троцкий сказал: «Война будущего — это авиация, помноженная на химию».
В двадцатые годы вообще процветало то, что в последующие годы будет предано анафеме. На станции Жаворонки под Москвой еще в 1930 году существовала Центральная станция по генетике сельскохозяйственных животных. Кое-где красовался лозунг «Генетика — путь к улучшению животноводства». В 1927 году Московский губернский суд оправдал врачей-гомеопатов, сославшись на то, что гомеопатия не является лженаукой.
То, что стало входить в жизнь в шестидесятые-семидесятые годы, появилось в двадцатые. Например, в 1925 году в криминологическом институте профессор В. П. Санчов производил опыты по применению киносъемки для раскрытия преступлений, снимая места происшествий и следы преступления.
К изобретательству потянулись и малообразованные люди. Русский эмигрант К. Борисов в своей книге, о которой мы уже не раз говорили, писал о том, что Россия в 1923 году страдала двумя болезнями: малярией и страстью к изобретениям. Он отмечал, что в Москве различные технические комитеты завалены проектами электровозов, подводных дредноутов, летающих автомобилей, а один крестьянин изобрел деревянный велосипед, после того как в каком-то журнале увидел фотографию настоящего. «Девяносто девять процентов из всех этих проектов, — писал Борисов, — безграмотный бред. Народ изобретает то, что давным-давно изобретено».
Конечно, за изобретателей обидно, но не обидно за человеческую мысль в России. Она зашевелилась, задвигалась, забурлила. В 1927 году крестьянин Кобецкий изобрел ветряной двигатель для мельницы, крестьянин-самоучка Кузнецов, тот, который помог отремонтировать знаменитому летчику Российскому самолет, когда тот сделал вынужденную посадку в его деревне, сконструировал пропеллер для аэроплана, лучше французского, как писали газеты. Он же изготовил самолетные лыжи, усовершенствовал вентилятор. В 1925 году машинист Казанцев придумал железнодорожный тормоз не хуже тормоза Вестингауза.
Первый московский небоскреб — здание «Моссельпрома», стоящее на стыке Калашного и Кисловских переулков, покрасили синей и черной краской так, что создавалось впечатление, будто здание это сделано из стекла. К тому же от того, что черной краской были проведены вертикальные линии, здание казалось еще выше. Очень уж хотелось нам перегнать Америку.
В 1924 году Арсений Авраамов решил сыграть «Интернационал» и «Варшавянку» на органе заводских труб. Ему предоставили такую возможность. Руководил своим «оркестром» Авраамов во дворе МОГЕСа. Однако техническое несовершенство созданного им инструмента сделало мелодии революционных песен неузнаваемыми для широкой публики. Но кое-какой шум все-таки получился. «Опыт сделан, — писал немного удовлетворенный Арсений Авраамов в журнале «Художник и зритель», — сделан на скромные двадцать червонцев, отпущенных МК на все расходы. Это доказывает отсутствие в замысле утопического элемента. Затратив несколько большую сумму, приспособив к гудкам клавиатуру для сольного исполнения, мы сможем иметь грандиозный паровой орган, готовый к услугам Москвы в любой торжественный момент революционного быта. А быть может, внедримся и в бытовые будни, приветствуя «Интернационалом» начало и конец каждого рабочего дня, оповещая столицу о точном времени и вообще вытесняя и заглушая колокольный звон старой культуры рабочим ревом гудков и сирен, самим тембром своим, много говорящим пролетарскому сердцу». Но идее Авраамова не суждено было осуществиться, да и город стал слишком шумным, чтобы его смогли перекричать заводские гудки.