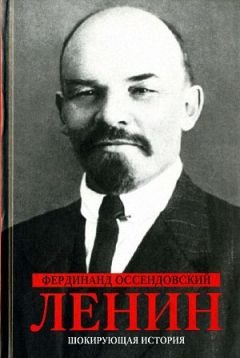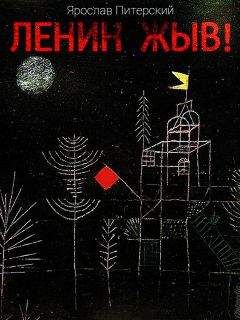Сказав это, отец Виссарион встал из-за стола, трижды перекрестился и прошептал просящим голосом:
— Только, дорогие мои, не пересказывайте никому нашу беседу! Я не боюсь, но мне хотелось бы побыть в этих местах подольше…
Они вышли во двор, где стояла повозка.
Кучера не было.
— Володя, сбегай-ка к Халину! Наверняка работник ваш, отец Виссарион, пирует с остальными на поминках, — сказал господин Ульянов.
Только мальчик захотел исполнить приказ отца, как на крыльцо хаты Халина стали выходить мужики с бабами. Они размашисто троекратно крестились и, шатаясь и спотыкаясь, спускались по ступенькам.
Выйдя на улицу, затянули нестройным хором какую-то задорную песню.
Пьяный и шатающийся кучер побежал к своей повозке.
— Почетные, торжественные похороны устроили дочке… Ха! Приюти, Господи, душу рабы твоей Настасьи… — бормотал он, вскарабкиваясь на козлы.
Повозка покатилась по улице, вздымая за собой облака пыли.
Пьяный мужик хлестал клячу бичом и кричал злым голосом:
— Я с тебя, стерва, шкуру спущу, кости переломаю!..
Родители Володи вернулись домой.
Мальчик остался и смотрел на исчезавшую за поворотом, подпрыгивавшую на камнях и лязгавшую окованными колесами повозку маленького, бледного попа.
Он еще явственно стоял у него перед глазами с рукой, угрожающе вознесенной над головой, а рядом проявлялся образ толстого попа Макария, ласкающего мягкую бороду и серебряный крест с золотым венцом, голубой глазурью и дорогими камушками над головой распятого Христа.
— Два священника… — думал он. — Какие же они оба разные и удивительные!.. Кто из них лучше, кто настоящий, а кто — хуже?
Ответа не было. Он чувствовал, что запутался в понятиях…
Мальчик закрыл черные глаза и сильно стиснул губы.
Припомнилось, что он хотел еще посмотреть на нищего, который заночевал у старосты. Стряхнув мучительные сомнения, он побежал в хату, где находился пришелец. Нищий сидел в окружении баб и детей, которые прижимались к нему.
Это был «Ксенофонт в железе», старый, худой мужик с черным лицом и мученическими, бесчувственными глазами. И зимой и летом он ходил босиком, одетый в одну и ту же дырявую, потрепанную дерюгу. На истощенном теле он носил тяжелую Цепь и терзавшую рубаху из конского волоса. На груди его висела большая, тяжелая икона Христа в терновом венце.
Старец говорил без перерыва. Это была смесь молитв, притчей, сплетен и новостей, собранных по всей России, которую он, гонимый жаждой бродяжничества, пересекал бесцельно вдоль и поперек уже долгие годы.
Он рассказывал о монастырях, реликвиях святых мучеников, об их житиях; о тюрьмах, куда беспросветная, безнадежная жизнь загоняла мужиков тысячами; о бунтах; о каком-то ожидаемом «белом письме», которое должно было дать крестьянам землю, настоящую свободу и счастье; о холере, которую «разносили» по деревням врачи и учителя; показывал талисманы от всех несчастий: щепоть Святой земли, осколок кости святой Анны, бутылочку с водой из колодца святого Николая Чудотворца; смеясь, подпевая и звеня цепями, он пророчествовал пришествие Антихриста — врага Бога и людей, говорил, что 666 дней его правления переживут только те, кто тяжелым бременем страданий и несправедливости прижат к земле, то есть — крестьяне. Это им будет дано право судить своих обидчиков; потом снова придет Христос и установит на тысячу лет господство людей от сохи, чтобы перед концом света познали они радости земной жизни.
Этот невменяемый, черный, как земля, старый нищий пел, кричал, молился, плакал и смеялся.
Маленький Володя внимательно присматривался к нему. Странные рассказы старца вызывали у него разные мысли.
Вдруг к избе старосты подъехала, звеня колокольчиками, повозка, за которой верхом на конях ехали двое полицейских.
В комнату вошел чиновник. Высокомерно поздоровался со старостой и спросил:
— В твоей деревне живет Дарья Угарова, вдова солдата, погибшего на Турецкой войне?
— Живет… — ответил перепуганный мужик, надевая дрожащими руками на сюртук латунную бляху с надписью «староста» — символ его власти. — Возле Кривого ущелья стоит хата Угаровой…
— Покажи мне дорогу к вдове! — приказал чиновник и вышел из дома.
Они шли в сопровождении толпы баб, поющего Ксенофонта и сбегавшихся отовсюду мужиков.
ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ
(в первом классе гимназии)Возле маленькой хаты с дырявой, крытой черной гнилой соломой крышей и выбитыми, завешенными грязными тряпками окнами доила корову немолодая женщина; две девочки деревянными вилами выбрасывали из хлева навоз.
— Именем закона отбираю у Дарьи Угаровой дом, пашню и все имущество за неуплаченные после смерти мужа налоги, — объявил чиновник строгим голосом. — Исполняйте свои обязанности!
Он кивнул в сторону сидящих верхом полицейских. Те вывели корову и стали опечатывать избу и хлев.
— Люди добрые, соседи! — завопила, вздымая руки, баба. — Спасайте, сбросьтесь, заплатите! Сами знаете, какая у меня в доме нищета! Мужика у меня нет… пропал на войне… Что же я, несчастная, одинокая, сделать-то могла? Ни плуга у меня, ни работника… Сама выхожу в поле с деревянной сохой, в которую корову и девчонок моих малолетних запрягаю… Если бы не корова-кормилица единственная, мы бы давно уже с голоду померли… Спасайте!.. Заплатите!
Мужики опускали глаза и угрюмо смотрели в землю. Никто не пошевелился, никто не проронил ни слова.
— Ну вот! — сказал чиновник. — Еще сегодня Дарья Угарова должна покинуть жилище. Староста проследит, чтобы ни одна печать не была нарушена до завершения дела.
После этого он раскланялся и сел в повозку. За ним, держа корову на веревке, поскакали конные полицейские.
Толпа не расходилась. Все стояли молча и слушали мольбы, жалобы и рыдания Дарьи. Она терзала на себе полотняную, подпоясанную веревкой рубаху; рвала на голове волосы и пронзительно кричала, как раненая птица.
Раздвигая толпу, к ней подошел Ксенофонт.
Бряцая цепями, встал на колени перед плачущей, отчаявшейся бабой. Прижимая пальцы ко лбу, плечам и груди, шептал молитву и смотрел на нее неимоверно горящими глазами.
Наконец, он коснулся челом земли и торжественно произнес:
— Раба божья, Дарья! Есть ли кто, кто защитил бы тебя и этих возлюбленных во Христе детишек? Есть ли кто, кто позаботится о вас?
— Никого нет, никого!.. Сироты мы несчастные, одинокие… — отозвалась Дарья, рыдая, почти теряя сознание; ноги от отчаяния подкосились, она бессильно оперлась о стену избы.
— Во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь! — воскликнул нищий. — Значит я, негодный слуга Христа, беру вас с собой… Пойдем вместе нищенствовать и скитаться… в зной, мороз, засуху, в бурю и метель… от деревни к деревне, от города к городу, от монастыря к монастырю… по всему безмерному лику святой Руси!.. Будем как птицы, которые не пашут, не сеют, а Бог дает им пропитание, идущее от сердец добрых людей… Не горюйте… не плачьте!.. Христос Мученик и Матерь Его Пречистая сошлет вам помощь с небес… Собирайтесь… В путь далекий, знойный… Во имя Христово… и аж до дня, когда придет возмездие и награда в слезах и боли тонущим угнетенным… В путь!
Он взял за руки девочек и пошел, звеня железом. Дети не упирались, шли спокойно, тихонько плача.
Дарья взглянула на уходивших, отчаянным взглядом окинула убогую хату, разваливающийся хлев, сломанную изгородь и ковшик с остатками молока на дне.
Потом крикнула пронзительно, угрожающе, как кружащий над лугом ястреб, и побежала вдогонку за Ксенофонтом, который, постукивая посохом, шагал за идущими впереди, босыми, в грязных полотняных рубахах и с растрепанными льняными волосами девочками.
Бабы разбежались по избам и через минуту стали окружать уходивших на нищенские скитания, принося им хлеб, яйца, куски мяса, медяки. Они давали Ксенофонту и Дарье милостыню, приговаривая:
— Ради Бога…
— Христос воздаст… — отвечал нищий, пряча дары в мешок.
Недавних соседей, оставляющих родимое гнездо, провожали всей деревней до самого распутья.
Дальше нищие пошли уже сами.
Только Володя, прячась за кустами, продолжал их сопровождать.
Ксенофонт шепотом молился, Дарья тихонько плакала, а уже спокойные и обрадованные переменами в жизни девчонки бежали впереди и собирали полевые цветы.
На полях работали крестьяне.
Маленькие, худые лошадки тащили сохи с одним, выкованным деревенским кузнецом, лемехом. А те, кто не мог себе этого позволить, пахали острым дубовым корнем.
Огромное усилие чувствовалось в склонившихся головах слабеньких лошадей, напряженных фигурах идущих вдоль борозды людей.
Лошадки тяжело сопели, а мужики покрикивали на них запыхавшимися голосами: