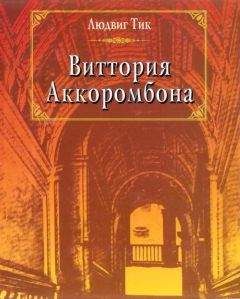Придя домой, он лег в постель, потому что его снова лихорадило.
В тот же день после обеда в дом Аккоромбони прибыл друг семьи, известный повсюду дон Чезаре Капорале{39}. Мать и дочь были рады приветствовать человека, который поможет им развеять их дурное настроение и неистощимая веселость которого обещала приятное времяпрепровождение.
Чезаре Капорале был одним из тех людей, которые своей любезностью и добродушием заставляют забыть безобразие своего лица. Его тон и манеры таили благородство, а весь облик говорил о том, что он долго вращался в высшем свете. Небольшой крючковатый нос на удлиненном загорелом лице, многочисленные морщины, а также внешняя простоватость несколько старили его, хотя ему не было и пятидесяти. Небольшие серые глаза горели плутовским огнем, а каждое слово сопровождалось таким быстрым и лукавым взглядом, что многие изречения, которые в его устах казались чрезвычайно остроумными, будучи сказаны другими, воспринимались как банальность.
С обычной доброжелательностью он пожал руку обеим дамам, удобно уселся и заявил:
— Ну вот я и снова с вами, дети божьи, и радуюсь этому, как больной весеннему солнышку. Я был опять в моей любимой Перудже и весело там пожил с друзьями. Родное гнездо всё еще стоит на старом месте, ни один из моих знакомых не умер в этом году, в доме моего отца я всегда могу найти пристанище, я снова посетил церкви, побывал в горах и полюбовался шедеврами нашего старого мастера Пьетро{40} и его великого ученика Рафаэля. Прибыв в Рим, я к своему ужасу услышал, что вы здесь все захлебнулись или, с вашего позволения, утонули, что почти одно и то же. Отчаяние всех красивых лощеных молодых дураков было так велико, что не передать словами. Это не мудрено: когда человек красив, его жалеют больше, чем, например, такого, как я, кто ходит с фатальной рожей. Но скажите, ради бога, кто распустил этот нелепый слух? По-моему, все живы и здоровы и даже, совсем как разумные люди, сидите на суше. Благоразумная мать, образцовая Виттория и полный надежд Фламинио — все в полном здравии, разве только немного задумчивые, можно даже сказать, скучающие, хотя это, возможно, слишком поспешный вывод.
Мать вкратце рассказала ему о странном происшествии, которое могло закончиться столь трагически.
— Вот видите, — сказал под конец Чезаре, — я всегда утверждал, что наша Виттория чересчур резва и подвижна для своего роста. Такое допустимо только для небольших особ, им это даже иногда идет. Поэтому я с моим высоким туловищем, длинными руками и ногами держу себя так величественно. Если у меня какой-то жалкий мяч, который я, правда, не ношу с собой, упадет в воду, я позволю ему уплыть даже в адову пасть, как я всегда называю грот Нептуна, но, честно говоря, этот могучий великан никогда не был связан с реками нашей страны. Еще, пожалуй, пришлось бы воспевать и оплакивать вас, как старому поклоннику, если бы вы там погибли, а мне еще ни разу не удавались серьезные стихи.
— Но неужели вы не привезли нам никакого нового сочинения? — спросила мать.
— Поэта, — ответил Капорале, — так переполняют подчас наброски и планы, что он не может завершить ни одного. Я бродил по окрестностям Перуджи и сочинял. Моя поэма о жизни Мецената{41} уже почти готова, но, кроме новой комедии, там, в уединении, у меня возник еще один комический замысел. Дело в том, что я придумал, как Аполлон в своем охотничьем замке велел объявить собрание, и все, кто считает себя поэтом, должны были прийти к нему, чтобы от сведущих судей и присяжных услышать себе приговор. Задача щекотливая и с загвоздкой, ведь очень многие из наших ныне здравствующих педантов и бесталанных рифмоплетов могут рассердиться и обидеться. Поэтому я, возможно, опять откажусь от этого замысла, если не найду для его воплощения приличную золотую середину.
— О дорогой, — воскликнула оживленно Виттория, — вы должны похвалить всех моих любимцев, а тех, которые всегда сердили меня, метко осмеять и изобразить в черном свете.
— Например? — спросил поэт.
— Кто же достоин большей похвалы, — продолжала она, — чем благородный, великолепный Бернардо Тассо и его сын Торквато Тассо{42} за его божественную Аминту? Бранить же вы должны язвительного Спероне{43}.
— Не пойдет уже потому, — ответил поэт, — что я с ним совсем недавно разговаривал в Риме, и он был вполне приветлив со мной. Итак, продолжим: я бродил там, в горах Перуджи, размышляя, строя планы и проекты, переходя от досады к радости. Так я вышел в зеленое поле в вечерний час, солнце садилось, а мне еще хотелось побыть на свежем воздухе. Вдруг из зеленых кустов передо мной сверкнуло что-то так большеглазо, так неестественно огненно, что я подумал: может быть, вернулось солнце; и тут я увидел ее — то была Венера, вечерняя звезда. Но я еще никогда не видел ее в таком великолепии. Ну хорошо, я с радостью подивился тому, что в мире есть еще что-то столь прекрасное, и продолжал идти дальше, философствуя и размышляя о своей поэме. Действительно, в нашей жизни бывают минуты, когда ты забываешь о времени. Так было и со мной. Я все гулял, и тихая ночь застала меня. Когда я расхаживал таким образом, мне показалось, что на востоке поднимается, будто светлый туман, ясное, клубящееся сияние; подивившись этому, я совсем забыл, что, пожалуй, то могло быть сияние наступающего дня. Я отпрянул в испуге, ибо навстречу мне засверкала огненная колесница Юпитера, спустившегося на землю к своей новой возлюбленной. Божественно яркая звезда оказалась совсем рядом с зеленой землей, отражаясь в мокрой траве и лаская покрытые росой гранаты, — она была велика, подобно Луне, — чистая, белая, блестящая, она показалась мне, несведущему, божественной Афродитой, богиней любви. Тогда я, прелестные женщины, с благоговением задумался о вас; вы, Юлия, — моя вечерняя, светлая; вы, Виттория, — моя сверкающая утренняя звезда, и я не находил покоя до тех пор, пока снова не пришел к вам. Пусть на небе горят миллионы созвездий, для меня на нем только одна Венера. Не правда ли, кума?
— Вы галантны, дон Чезаре, — ответила донна Юлия, — и при этом поэт. Как жаль, что вы и многие подобные вам — женоненавистники.
— И вы верите в эту сказку? — спросил Капорале. — Только уродливые мужчины и те, кого не выносят женщины, прикидываются женоненавистниками. Ни один смертный не принимает такое всерьез, да это и не может быть серьезно. Каприз природы в том, что она создала женщин, и это — единственное, ради чего стоит жить. Все слабости, противоречия, неверность, недостатки характера, даже совершённое зло, о чем постоянно кричат моралисты своими хриплыми голосами, всегда только женской природы, которую они не в силах оценить. Кто любил одну женщину, кого когда-либо осчастливила возлюбленная, будет ценить ее ложь и глупости выше, чем правду Аристотеля и мудрость Платона. Могу ли я критиковать утреннюю звезду? Разве я требую от нее добродетели и морали? О ты, вечная непостижимая красота, ты, божественное, бессмертное, хотя и такое преходящее сокровище любви и наслаждения! Как грубо обходятся с тобой люди и манипулируют самим божеством, как будто это доска или деревянная подставка, чтобы хранить на ней старый забытый хлам.
— Не будьте таким скучным, — заявила мать, — и расскажите нам лучше, что нового в Риме.
— Громы небесные, — воскликнул поэт, — это же как раз признак нашего века, что ничего нового нет. Или вы подразумеваете под новостью каждый пустяк? Так, наш святой отец Григорий все еще мастерит свой новый календарь{44}, как будто вместе с ним мы получим реальное добро, если самое глупое и непостижимое в мироздании — время — будет распределено по-новому. Новый год теперь должен начинаться не с Пасхи и весны, а с холодного тривиального первого января, и т. д., и т. п. До сих пор мы верили, что папы заботились только о так называемой вечности, но теперь они ополчились и на земное время, чтобы и здесь навести порядок. Новости в Риме? Кардиналы плетут интриги друг против друга, в связи с юбилеем в Рим прибыло много чужеземцев, церкви и святые места посещаются; рассказывают, будто гнусный Амброзио выловлен со своей шайкой.
— Амброзио? — переспросила мать. — Где же поймали негодяя?
— Говорят, в Субиако, — спокойно ответил поэт. — Шайка взломала и разграбила там ночью дом начальника магистрата, а самого хозяина утащили с собой в горы, чтобы отомстить ему, слишком уж он усердствовал в преследовании разбойников. Но добровольная армия внезапно напала на их логово и разорила все гнездо.
Матрона задумалась, а Капорале не мог понять, отчего эта новость так расстроила ее.
— Страшно подумать, — заговорила Виттория, — как с каждым днем множатся разбойничьи банды. Почти каждая знатная семья, защищаемая великими и сильными, имеет свою банду, сражается открыто, как на войне.