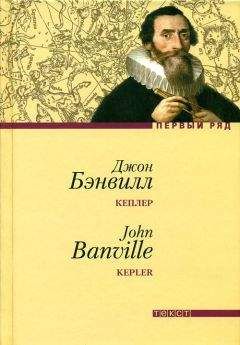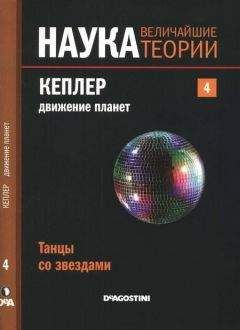Мэстлин еще больше насупился. Было воскресное утро. Они вышли на общинный луг за главным зданием. Вязы гнулись под буйным небом. У профессора была поседелая бородка, нос пьяницы. Он тщательно взвешивал понятия, прежде чем их предать словам. Европа его считала великим астрономом.
— Я полагаю, — объявил он, — что математик тогда достигнет цели, когда выдвинет гипотезу, соотносимую с действительностью так близко, как только это возможно. Вы бы и сами отступили, думаю, если б кто-то представил решение еще лучше вашего. Из чего отнюдь не следует, что действительность немедля подтверждает даже и самую тщательную гипотезу каждого ученого.
Иоганнес хмурился, тощий, злой. Впервые после того, как отпустила его горячка, он решился выйти. Он чувствовал себя сквозным, прозрачным. В вышине прошелся рокот, вдруг грянули колокола, все внутри у него задрожало.
— Зачем напрасно переводить слова? — он сказал, он проорал (эти колокола, чтоб их). — Геометрия существовала до Творенья, она совечна Божественному разуму, она — сам Бог…
Бамм.
— О! — Мэстлин на него уставился.
— …ибо что, — мягко, — существует в Боге такого, что бы не было сам Бог? — Серый ветер, приминая траву, подбирался к нему; он поежился. — Но мы только перекидываемся фразами. Скажите, что вы в самом деле думаете?
— Я сказал уже, что думаю, — отрезал Мэстлин.
— Но это, простите мне, профессор, лишь схоластические увертки.
— Ну что же, я схоласт!
— Вы, преподающий своим ученикам — мне преподавший — гелиоцентрическое учение Коперника, вы схоласт? — А сам меж тем искоса метнул острый взгляд в профессора.
Мэстлину только того и надо было.
— Ах, он же был схоласт и — он охранял явления!
— Он всего лишь…
— Схоласт, сударь мой! Коперник почитал древних!
— И что ж. Я разве не почитаю?
— Мне кажется, молодой человек, что вы мало к чему имеете почтение!
— Я почитаю прошлое, — сказал он мягко. — Я только думаю — дело ли философа рабски следовать учениям предшественников?
Да, он правда думал: дело ли это философа? Дождь, как фокусник монеты, ссыпал капли на мостовую. Дошли до крыльца Aula Maxima.[7] Дверь была закрыта и заперта изнутри, но им хватило места под каменным навесом. Стояли молча, глядя наружу. Мэстлин тяжко дышал, как мехами вздуваемый досадой. Иоганнес, не замечая этого, праздно оглядывал овец на лугу, их траурно аристократические морды, тихие глаза, и как жевали они траву, брезгливо, будто пастись — сложная, тяжелая работа: немые, бессмысленные твари Божьи, сколько же их, какие они все разные. Вот так порой ему открывался мир, вдруг поражал вот так — не образом, не видом, — тем только, что он есть. Ветер стайками срывал грачей с осанистых дубов. Стало слышно пенье, из-за склона луга нестройным рядом вышагали мальчишки, как брод, одолевая непогоду. Пенье, жидкий Лютеров гимн, дрожало на ветру. Кеплер с болью опознал глупые семинарские одежки: вот так и он, бывало… Проходили, столиким призраком, но тут дождь припустил, и, с визгом поломав строй, они кинулись прятаться под вязами у колледжа Святой Анны. Мэстлин говорил:
— …в Штутгарт, у меня дело при дворе герцога Фридриха. — Он помолчал в ожидании ответа; тон его был примирительный. — По просьбе герцога я составил календарь и должен его доставить… — Он приступился сызнова: — Вы тоже, разумеется, делали подобную работу.
— Что? Ах, календари, да-да. Хоть всё это чушь собачья.
Мэстлин выпучил глаза:
— Всё?..
— Звездочетство, ведовство, всё это. И однако, — помолчав, — однако я верю, что звезды влияют на наши предприятья… — Осекся и нахмурился. Былое шло сквозь душу в бескрайность будущего. За спиной у них со скрежетом приотворилась дверь, выглянула скелетоподобная фигура, тотчас скрылась. Мэстлин вздохнул:
— Вы едете со мною в Штутгарт или нет?
Назавтра спозаранок отправились в столицу Вюртемберга. Кеплер заметно повеселел, и на первой же станции Мэстлин завалился в угол почтовой кареты, изнуренный трехчасовыми рассуждениями о планетах, периодичности и совершенстве форм. Намеревались пробыть в Штутгарте с неделю; Иоганнес на полгода там застрял.
Он составил дивный план, как продвинуть свою небесную геометрию в люди. «Видите ли, — толковал он сотрапезникам за столиком в герцогском дворце, — я задумал винную чашу, вот таких размеров, и она будет моделью мира по моей системе, отлита в серебре, со знаками планет из драгоценных каменьев: Сатурн — алмаз, жемчужина Луна, ну и так далее, и, заметьте, при этом с механизмом, позволяющим из семи краников, от семи планет наливать семь разных видов выпивки!»
Компания на него уставилась. Он сиял, наслаждаясь общим немым изумлением. Дородный господин в завитом парике, чьи цветущие черты и выправка изобличали близость к власти, вытащив хрящик изо рта, осведомился:
— И кто ж, по-вашему, не пожалеет средств на столь редкостный проект?
— Ну как же, сударь, его светлость герцог. Затем я здесь. Я знаю, князья склонны забавляться умными игрушками.
— Вы полагаете?
Пышная дама, украшенная бездной дивных старинных кружев возле горла и чем-то, подозрительно напоминающим сыпь венерическую, над верхнею губой, вся подалась вперед, чтобы получше разглядеть странного юнца.
— Но тогда, — она смущенно кивала под сложным своим убором, — вы должны просветить моего мужа, — уронив визгливый смешок. — Муж у меня второй секретарь при после Богемии, знаете ли.
Он дернул головой, надеясь в столь возвышенном обществе это выдать за поклон.
— Сочту за честь знакомство с вашим мужем, — и, для особенного шика, — мадам.
Дама просияла и протянула руку по столу ладонью кверху, предлагая его, словно блюдо деликатесов, вниманию цветущего господина в парике, и тот опустил на него взор и вдруг, как верительную грамоту, предъявил полный рот золотых зубов.
— Герцог Фредерик, молодой человек, — сказал он, — позвольте вас уверить, денег на ветер не бросает.
Все засмеялись, как знакомой шутке, и снова занялись едой. Юный усатый воин, разделывая цыпленка, остро глянул на Иоганнеса:
— Семь разных видов выпивки, говорите?
Иоганнес будто не заметил этой воинственности.
— Семь, да, — сказал он, — aqua vitae от Солнца, бренди от Меркурия, от Венеры мед, — деловито загибая пальцы, — от Марса вермут, от Юпитера белое вино, а от Сатурна, — он хмыкнул, — от Сатурна потечет лишь скверное прокисшее вино или пиво, да будут постыжены те, кто не сведущ в астрономии.
— Как так? — Цыплячья нога с треском отломилась. Ответом Кеплера была самодовольная ухмылка. Теллус, старший герцогский садовник, жирный малый с гладким лысым черепом, допущенный за этот стол благодаря недавнему своему возвышенью в должности, расхохотался, крикнул: «Вот это ловко!» — и воин покраснел. Лоснистые кудри мазнули ворот бархатного камзола. Тут птичья физиономия на тонкой шейке высунулась из-за плеча Кеплерова соседа и пискнула:
— A-а, и вы хотите сказать, так ли я вас понял, что нас, как бы это выразиться, не ознакомят с вашей удивительной теорией? А? — Он смеялся, смеялся, он не мог уняться и все махал маленькими ручками.
— Я намерен, — признался Иоганнес, — рекомендовать герцогу, чтоб держал ее в тайне. Отдельные части сей чаши будут выкованы разными мастерами и лишь затем собраны воедино, дабы мой inventum не открылся прежде времени.
— Ваш — что? — рыкнул сосед и резко обернулся, темнолицый, мрачный, крестьянин с виду — позже узнал Иоганнес, что он барон, — который до тех пор сидел, словно глухой, блюдо за блюдом без разбора пожирая пищу.
— Латынь, — кратко пояснил завитой парик. — Изобретение, он разумеет, — и бросил Кеплеру взор непомерно строгого укора.
— Ну да, я хочу сказать изобретение… — промямлил Кеплер. Вдруг одолели его недобрые предчувствия. Этот стол, эти люди, тесная неразбериха других столов, суетливые слуги, гам кормящейся толпы, все заговорило вдруг о неисцелимом неустройстве. У него упало сердце. Лихая просьба об аудиенции у герцога, набросанная в первый же день, едва он прибыл ко двору, осталась без ответа; и вот, спустя неделю целую, впервые его обдало ледяным холодом это молчанье. Болван, как мог он питать столь смелые надежды?
Он сложил чертежи своей космической чаши и собрался тотчас обратно в Грац. Впрочем, Мэстлин, призвав последние остатки своего терпенья, удерживал его, советовал составить просьбу более осмотрительную. Иоганнес кое-как позволил себя уговорить. Второе письмо вернулось с пугающею быстротой, и детскими приземистыми буквами сбоку была приписка, указание построить модель чаши, дабы мы могли ее увидеть и, коли решим, что она достойна быть в серебре отлитой, за средствами не постоим. Мэстлин стиснул ему руку, а он только блаженно улыбнулся и шепнул: «Мы!..»