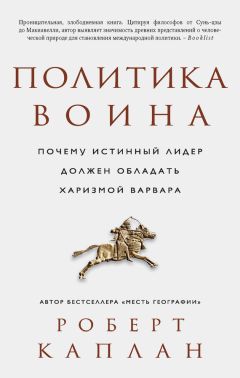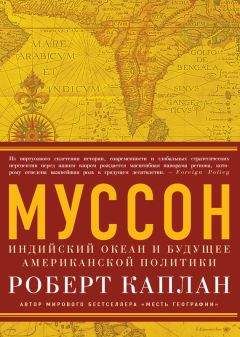– Эта грязная террористка трижды спасала мне жизнь в тюрьме. Если бы не она, я бы там и года не протянула… Понимаешь, Катя, у нас, каторжан, свой кодекс чести. Теперь я у неё в долгу, и если Мария просит приехать, я должна быть рядом с ней. Тебе этого не понять.
– Что мне сказать Дмитрию, когда он вернётся?
– Скажи ему, что я обязана была уехать, и… что я очень его любила….
Этим же вечером на вокзале Фани ждала московский поезд. Проводить приехала Екатерина и убитый горем Абраша. Объявили посадку. Женщины молча обнялись и заплакали. Фани подошла к Абраше, погладила его, как малого ребёнка, по голове: «Прощай, малыш и не поминай лихом свою «Веру Холодную», – и поцеловала его в небритую щёку. Прозвенел гонг дежурного по станции. «Опять звонят», – подумала Фани. И ещё она подумала о том, что никогда больше не увидит этих милых её сердцу людей.
Но через несколько лет выяснится, что жизнь способна преподносить и не такие сюрпризы.
В Москве Фани ждала маленькая, но уютная квартирка в доходном доме Тихомировых на Большой Молчановке, которая начиналась на Поварской, а заканчивалась почти напротив ресторана купца Тарарыкина «Прага», который недавно был переименован в столовую «Моссельпрома».
Мария обо всём позаботилась, она же познакомила Фани с товарищами эсерами и руководителем ячейки неким Семёновым. Приняли её хорошо, и, учитывая, что из месяца в месяц живот Фани всё больше выдавал её интересное положение, работой её особенно не загружали.
Она перепечатывала прокламации, ходила на собрания, где эсеры обсуждали методы борьбы со своими основными конкурентами в борьбе за власть – большевиками и кадетами. Вот на одном из таких сборищ у Фани и начались схватки. Мария и Семёнов отвезли её в родильный дом, который находился на Большой Молчановке, № 5 и где, по счастью, этой ночью дежурил доктор Грауэрман, любимец и кумир многих московских мамаш.
Роды были преждевременными и тяжёлыми, но всё обошлось. Волшебные руки доктора знали своё дело. Утром, когда ей принесли показать дочь, Фани разглядела только её смутный силуэт, зрение резко ухудшилось. На другой день заехали Мария и Семёнов, Фани узнала их скорее по голосам и подумала: «А вот и крёстные…». Семёнов взял малышку на руки, высоко поднял над головой: «Пополнение в наших рядах! Как назовём будущую революционерку?». От неожиданности Фани даже села на кровати. А действительно, как? И, не думая, произнесла – Натали…
– Натали. Так и запишите, – приказала Мария сестре.
– А фамилия отца? – спросила сестра.
– А фамилии отцов, как, впрочем, и они сами, для нас, эмансипированных революционерок значения не имеют! – назидательно ответила ей Мария.
Следующие полгода у Фани были заняты счастливыми хлопотами. Зрение почти восстановилось, Натали подрастала и Фани каждый день замечала, как менялась дочь, начинала «улюкать», стала узнавать мать и тянуть к ней свои ручки.
Товарищи эсеры почти не трогали её, поскольку знали, что оставить дочь ей не с кем. Как матери-одиночке ей полагалась коляска и теперь они с Натали подолгу гуляли по тенистым улочкам старой Москвы. Однажды она зашла на почту и заказала Евпаторию. На счастье Екатерина оказалась в гостинице и подошла к телефону. Фани рассказала ей о Натали и умоляла ничего не сообщать Дмитрию: «Не хочу обременять его ничем». Катя коротко рассказала о том, что Дмитрий Ильич после её отъезда стал сильно пить, Абросимов с Абрашей давно уехали. «Теперь в Крыму белые, и она, наконец, встретила своё счастье: он красавец, генерал и любит меня до сумашествия», – гудело контральто Екатерины в трубку. На прощание всплакнули. На том и расстались.
Шёл знойный и душный август восемнадцатого года. Власть уже окончательно перешла к большевикам, многие товарищи эсеры переметнулись на их сторону, и Семёнов ходил мрачный и злой. Как-то в конце месяца к Фани забежала Мария, принесла продукты и рассказала о завтрашней акции. «У завода имени Михельсона, что в Замоскворечье, завтра на митинге будет выступать Ленин. Мы должны сорвать этот митинг, но нас совсем мало, тебе придётся прийти. Сдашь Натали на один день в приют, потом заберёшь. Тебе нужно будет по знаку Семёнова открыть зонтик, чтобы все разом дружно освистали этого большевистского трепача».
Фани подошла к дому, на котором болтался на ветру плакат «Приют для одиноких пролетарских матерей» уже под вечер. Спустилась по разбитой лестнице в полуподвал и открыла ногой дверь, обеими руками прижимая к груди Натали. В нос ударил запах прачечной, мочи и сырости. В полутёмной, паркой комнате никого не было, стоял стол без скатерти и на нём зелёная лампа. Фани стало страшно – вот так оставить чужим людям своего ребёнка? Её охватил безотчётный страх, заныло вещее материнское сердце, и она повернулась, чтобы, нет, не уйти, а убежать отсюда.
Тотчас из полутьмы комнаты раздался каркающий голос: «Ты куда, гражданочка?», – и появилась старуха в красной косынке и грязном белом халате, – а ну, вертайся! Что же вы все молодые пугливые такие, а?», – достала амбарную книгу, помусолила губами карандаш и, всё время приговаривая – нарожают, невесть от кого, а потом пугаются…, спросила:
– Имя, отечество и фамилия?
– Натали… Дмитриевна….
Хотела сказать «Каплан», но вместо этого выпалила: «Дюпре…». Старуха изумилась:
– И кто ж такой этот Дюпре?
– Вождь французских коммунистов.
– Господи! Своих что ли не хватает? Вон их сколько, как собак нерезаных. Ребёночка когда забирать будете?
– Завтра утром, пораньше.
– Когда хотите, тогда и забирайте. Старуха сноровисто взяла Натали на руки и пропала во тьме комнаты. Оттуда раздался сначала плач девочки, затем один за другим заплакали остальные дети. Где-то там, в темноте звучал целый нестройный хор одиноких маленьких эльфов, и Фани явственно различала голосок своей дочери.
Она выбежала на улицу и вздохнула полной грудью. Сердце, как молот кузнеца, било в грудь и, казалось, вот-вот вырвется на свободу. Фани присела на скамейку, ноги отказывались слушаться. «Это ведь только на сутки, – уговаривала себя Фани, – завтра вечером заберу мою Наташеньку».
Незаметно стемнело, и на бульварах и Смоленской набережной зажгли фонари. Стало прохладно, и Фани немного успокоилась. Она неожиданно поняла, что торопиться ей сегодня некуда – дома её никто не ждёт. Она решила зайти на Смоленский рынок, купить свежего молока и творожок на завтра для Натали.
Недалеко от входа под фонарём стоял чёрный автомобиль, в нём сидели двое мужчин, которые что-то бурно обсуждали. Фани уже прошла мимо, но вдруг поняла, что один из них Семёнов. Она ещё раз оглянулась и рассмотрела другого. Буквально накануне, когда обсуждались детали митинга у завода Михельсона, Семёнов заявил: «Врага нужно знать в лицо!», и вывалил на стол целую пачку фотографий. «Вот – это Ленин, Троцкий, Бухарин, Луначарский…», – перечислял он фамилии и не назвал только одного, с последней фотографии. Именно он и сидел сегодня рядом с ним в машине.
«А вот этот человек, он кто?», – спросила Фани. Семёнов неохотно поднял фото, взглянул на него, словно видел впервые, и небрежно бросил: «Свердлов…, – и тихо, будто про себя, добавил, – Яков Михайлович…».
Конечно, Фани узнала его, она больше не оборачивалась, а наоборот ускорила шаг. На рынок идти она раздумала и свернула в переулок к своему дому. «Как же так, – думала Фани, – врага нужно знать в лицо, и теперь он сидит с ним в одной машине. Завтра расскажу об этом Марии, здесь что-то не так.
Конечно, из стана партии большевиков просачивались слухи о разладе в верхушке партии, пришла пора делить власть, которая так неожиданно свалилась им на голову. И Свердлов был одним из самых ярых, хотя и тайных, оппонентов Ленина. Спать Фани решила сегодня лечь пораньше, подошла к пустой кроватке Натали и помолилась о её здоровье на ночь.
А в чёрной машине, на которую обратила внимание Фани, между тем, состоялся следующий разговор.
– У меня появилось другое предложение, Яков Михайлович. У Спиридоновой для нашего дела, конечно, подходящая репутация, но отдавать её сейчас на «заклание» не разумно. Она нам ещё пригодится. У нас есть Фани Каплан, тоже террористка, но неудачница, её жизнь не нужна никому, пусть хоть нашему делу послужит.
– Хорошо, товарищ Семёнов, решайте сами этот вопрос. Главное, чтобы завтра наш соратник погиб от руки врагов. Вот тогда мы с вами и развернёмся.
На календаре, который висел в кухне чуть правее окна, было тридцатое августа. Фани долго и внимательно рассматривала его, там были Рождественские фото Парижа – Елисейские поля, Триумфальная арка, Парижская опера и много разных лиц, из которых она узнала только Наполеона. На фоне красной мельницы замерли девушки в корсетах и шляпках, в эротических и откровенных позах.
«Возьму и надену сегодня Катину шляпку, – подумала Фани, – вот удивятся товарищи эсеры». День тянулся каторжно медленно, выматывая душу, и Фани хотелось всё бросить, послать к чертям всех этих товарищей вместе с их митингом и бежать в приют, к Натали. Наконец она не выдержала и начала собираться, хотя времени до начала митинга оставалось немало.