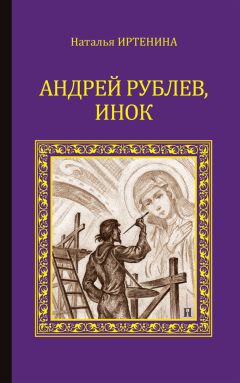– Да что ж говоришь-то, Феофан, – всплеснул руками Данила. В андроньевской иконной дружине он был старшим, но Гречин пенял отчего-то лишь младшему. – Славнее тебя на Руси нету изографа.
– Нету, так будет. Он вот, – показал пальцем в Андрея, – на мое место подбирается. Да я не ропщу. Пожил свое. Жизнь моя строптивая, мятежная. Ты думаешь, Данила, я не знаю, что зело тщеславен? Чести всю жизнь ищу! Да не только ее. Хотел добиться мирской славы через виденье и отображение Божественного света. Чтоб свет на моих иконах и росписях в оцепененье приводил! Чтоб в трепете перед величьем Бога повергались!.. – Голос Феофана возгремел, но тут же упал. – Обвык я на Руси писать светоносные образа – да все это не то. Что на деле тот Божественный свет узреть можно своими очами – разуверился. Сколь ни тщусь, не зрю его. На иконах пробела пишу, вохры досветла плавлю, а не верю боле, что свет тот неизреченный в самом деле есть!
– Безумие – пытаться увидеть свет, в котором Бог пребывает, – проговорил Андрей. – Смириться надо, а прочее – дело Божье.
Сказал и потупился под Феофановым взором. Гречин был премудр и богословием мог сыпать, как иные – шелухой подсолнушной. Чем всегда поражал не только простонародье, собиравшееся в церквах, когда там работал и сплетал словеса Феофан, но и книжных монахов.
Однако изограф не стал противоречить. Видно, и впрямь надломилось что-то в нем.
– А я и во всем мирском не вижу более света. Страшно мне стало, Андрюшка. К месту я тут прирос, а ведь раньше не мог долго усидеть. Дух вольный из меня вон вышел, Русь меня высосала. Да не Русь – Москва! Отяжелел я тут в заботах века сего, родней, имением оброс. Князь московский меня узами опутал, женой повязал. Вам, чернецам, того не понять, сколь родня женина дух отягощает. Да и какая родня – боярский род! Одно хорошо – Бог жену прибрал, в приплоде одна дочерь. С девкой видеться не дают, на порог дома не пускают. Не в чести у них такой сродник, философ мятежный. Замуж отдадут, и не узнаю за кого. Да я на них не в обиде. – Гречин махнул рукой. – Пущай спаривают девку с кем хотят. Хошь с татарином немытым.
– Что ж, в Новогороде – иначе, Феофан? – спросил Данила.
– А я и там не задержусь. Жизнь наша суетна, что обрящу в ней? Замысел лелею. Пойти с новгородцами на их ушкуях и юмах в Студеное море, сподобиться там рай узреть.
– Откуда ж там рай? – осторожно возразил Андрей.
– Слыхал я про это, – покивал Данила. – Однако, думаю, новгородцы лишнего прибавляют. Известно – где новгородец, там и сказ про чудеса.
– Не верите. – Феофан потянул с лавки суму. – Ну да я знал, что моим словам здесь веры не будет. Куда мне с моим умишком о рае мудровать. И говорить-то не хотел, да само с языка слетело. Архиерею новгородскому больше у вас обоих веры будет? Вот! – Он потряс толстым пергаменным свитком и принялся разматывать его. – Грамоту сию списал Епифаний, когда сидел в Твери, бежавши из Москвы от татар. А на Афон отправляясь, отдал мне в сохранение. Послание Василия Калики, епископа новгородского, Федору, епископу тверскому, о рае. Зачту малость… «А то место святого рая находил Моислав-новгородец и сын его Иаков. И всех их было три юмы, и одна из них погибла после долгих скитаний, а две других еще долго носило по морю ветром и принесло к высоким горам. И увидели на горе изображение деисуса, написанное лазорем чудесным и сверх меры украшенное, как будто не человеческими руками созданное, но Божьею благодатью. И свет был в месте том самосветящийся, даже невозможно человеку рассказать о нем. И долго оставались на месте том, а солнца не видели, но свет был многообразно светящийся, сияющий ярче солнца. А на горах тех слышали они пение, ликованья и веселья исполненное…»
Феофан бережно скрутил пергамен, спрятал в суму.
– Слыхали: деисус, писанный лазорем чудесным. Не человечьими руками созданный! И свет самосветящийся!
– Ну, коли уж епископ новогородский… – колебался Данила, теребя бороду с обильной проседью. – Деисус, положим, в любой церкви есть. Но чтоб один иконостас без церкви на острову стоял… Ты как думаешь, Андрей?
Младший иконник не отвечал. Только губы двигались, и взгляд, устремленный прямо, смотрел в неведомое. Данила, подождав немного, подтолкнул его локтем.
– Что зришь-то? – спросил он, привычный к таким состояниям товарища.
Данила и не пытался узнавать, что творилось в душе Андрея в эти мгновенья. Тот все равно не смог бы передать на словах. Но иногда рассказывал, а еще реже – воплощал на досках рожденное в наитии. Даниле тогда ничего не оставалось, как повторить сказанное некогда Творцом о своем творении: «Хорошо весьма!».
– Деисус лазоревый. Пречудный и изощренный, – заговорил Андрей. – Данила! – Он развернулся и схватил того за руки. – Нам нужна лазорь! Непременно нужна!
– Да где ж ее взять?!
– Ну, у вас свои чаянья, у меня отныне – свои. – Закинув суму на плечо, Феофан порывисто, как делал все в своей беспокойной жизни, шагнул к двери. – Прощайте, дети мои. А ты, Данила, присматривай за Андрюшкой. Неровен час – воспарит в небо, так ты его сей же миг хватай за ноги и на землю сбрасывай.
Он крепко притворил за собой дверь кельи. Оба монаха, поднявшись вослед, безмолвно смотрели друг на друга. Будто не верили, что Феофан Гречин, знатный мудрец и отменный изограф, странник и философ, некогда пришедший из Греческого царства на Русь в поисках великих трудов, отныне навсегда исчез из их жизни.
– А ведь не за прощанием он приходил, – удрученно вымолвил Данила, садясь за стол. – Он, верно, хотел, чтобы ты просил его вернуться.
– Феофан утратил надежду, – тихо отозвался Андрей.
Он растерянно поглядел в раскрытое волоковое оконце. Потом черпнул ковшом воду из бадейки, отпил.
– Что же ты не сказал ему остаться на Москве?
– Не сказал. Оттого что иначе все будет. Не так, как он думает. Не так, как мы думаем.
– Мудреный ты человек, Андрейка, – вздохнул Данила. – Иной раз и не понять, о чем говоришь. А я ведь тебя как облупленного знаю. Иноком новоначальным тебя пригрел в своей келье.
– Прости ты меня, Христа ради, Данила! – Андрей развернулся к иконному углу и в порыве перекрестился. – Сам себя не знаю. Нынче Алешку до слез довел. Феофан на меня в обиде. А я и не ведаю, как с ним примириться. Со всех сторон грешен!
– Пошли-ка молиться, – предложил старший. – Молитва от всех бед совет да ответ. Вечерня уж скоро.
– Лазорь нужна! – будто не слыша, вдохновенно повторил Андрей.
Резко стукнула дверь. В келью ввалился, чуть не рухнув лбом на пол, послушник. Упасть ему не дала рука, неласково державшая отрока за шиворот. Следом через порог ступил старец Касьян, в другой руке державший кривую суковатую трость.
– Окаянство расплодили в обители! – гневно возгласил старик. – Послушники неподобь творят, во образец от прочих!
Он отпустил Алешку. Тот забился в угол между лавками, потирая загривок – старец Касьян известен был железной хваткой.
– Сперва под дверью подслушивал, яко бес нечистый. После за Феофаном вашим до ворот увязался, за конем его поспешал, будто песий хвост. А все ты, Андрюшка! – ругался Касьян. – Суету мирскую с ног своих не отрясаешь, сам осуетился! Вестимо, в чести у князей, у бояр ты – гордыня-то и утешается! Фарисействуешь! Гроб изукрашенный, внутри поганства исполненный! Тьфу! – Старец обильно харкнул на пол и ткнул клюкой в грудь Андрея. – Смотри! Краски твои – прах, когда сам в нечистотах!
– Да что несешь, старый… – Алексей рванулся, сжав кулаки.
Данила ухватил его, толкнул обратно.
– Не лезь не в свое, – внушил коротко и негромко.
– Да в каких нечистотах?.. – чуть не плакал отрок. – Андрей, скажи ему. Что он все время тебя поносит! Скажи, Данила!..
Послушник вцепился в подрясник Данилы, широко от изумления раскрыв глаза. Младший иконописец, не сказав ни слова себе в оправдание, склонился в пояс перед лаявшим его монахом.
Старик, стуча тростью, убрался.
– И зачем ты, Алешка, за Феофаном увязался? – повернувшись, спросил Андрей. Он был весел. – Зачем подслушивал?
– Так сказали, будто сам Феофан Гречин здесь, – засопел отрок, все еще переживая, – я и хотел поглядеть. Это для вас он знакомец. А я в Новгороде его росписи видел. Помирать буду – не забуду того блистанья, каким его праведники светятся. Будто молниями насквозь пронзены!
– Он давно так не пишет, – сказал Данила, надевая клобук.
– Отчего?
– Отчего, Андрей? – переспросил Данила, обернувшись у двери.
– Феофан к небу вопрошал. А ответа не услыхал. Свеча погасла… Данила!
– Да знаю, знаю, – откликнулся тот из сеней. – Лазорь нужна. Куда ж без нее…
Над монастырем плыл хриплый звон клепала, сзывавший на молитву. От Москвы, накрытой лиловой теменью туч, докатывалось громовое ворчанье.
5.
Гончары в Москве издавна селились у реки, ближе к воде, которой требовало ремесло. Но гончарный конец на посаде не стоял на месте. Росла Москва, раздвигался Великий посад, и гончары с течением времени перемещались все дальше от Кремля. Нынче они занимали местность, звавшуюся Острый угол – между поречьем с купеческими пристанями и краем посада, за церковью Николы Мокрого. Дальше за ними, подпирая посадскую городьбу, селились только кожеделы, распространявшие вокруг такой запах, что жить поблизости никто больше не соглашался.