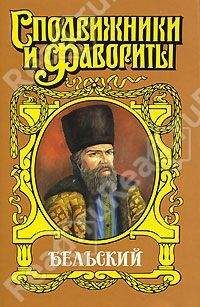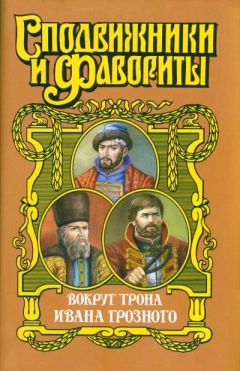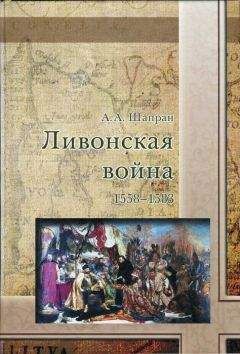Тихо-тихо стало на месте встречи. Закрой глаза и покажется, что нет вокруг ни души. Все с замиранием сердца ждут, что крикнет Грозный: «Взять их!» — и закрутят всем руки за спины.
Царь долго наслаждался страхом встречавших, а удовлетворив свое торжество, повелел:
— Веди, отступник, в палаты свои. Устрой пир для нас, прибывших в гости, и клира своего.
Отцов города, наместника и воеводу не позвал, и те в недоумении и страхе (подобное отношение к ним царя не предвещало ничего хорошего) расползлись по домам. И не понятно им пока что, минует ли лихо, либо наступил уже их час.
Не настал. Грозный определил карать раздельно: первыми — служителей церкви, затем уж — всех остальных, причастных, как он считал, к измене.
Перед трапезой — литургия в храме Софийском. Сам архиепископ служит, и царь смиренно крестится, бьет поклоны и шепчет молитвы. Кажется, смягчилось его сердце под сводами храма Божьего. Пимен даже взбодрился, предвкушая милость царскую, смягчение гнева его.
Не слышал он, как после литургии царь вполголоса повелел боярину Салтыкову:
— Приведи в детинец сотни две. Остальным скажи, чтобы готовы были действовать по моему слову без промедления.
Не заметил архиепископ и того, как знатный боярин откололся от всех остальных — Пимен едва сдерживал радость от того, что царь решил пировать именно в его палатах. Гость может ли сделать зло хлебосольному хозяину? Да и осмелится ли православный осквернить храм Божий?
Поначалу все так и вышло. Чинно. По обычаю. Все блюда подносили к столу царя, а тот, взяв себе приглянувшееся, рассылал остальное своим боярам по чину, но лучшие куски велел нести архиепископу и иным священнослужителям, тоже по сану их. Рассылал царь и кубки с медом и вином фряжским[11], разламывал хлебы — неспешность привычная, ничем не нарушающая вековых укладов. Благодушия за столом тоже не занимать. Не умолкали и славицы, возглашавшие мудрость царя Ивана Грозного, его человеколюбие и великое умение управлять державою, которое затмило делами своими всех царствующих предшественников — начальники опричные, князья и бояре состязались в велеречиях истово, и видно было, сколь доволен был грозный царь. Вот и осмелел архиепископ Пимен, когда царь послал ему ломоть хлеба и кубок вина.
— Сие тело Христово, сия кровь Христова послана мне, царь всего мира православного, тобой по велению сердца твоего…
— Замолчи! — рявкнул Иван Васильевич. Именно рявкнул, иного слова не подобрать. — Замолкни, иуда!
Он пылал гневом, а взор его торжествовал, ибо видел, как дрожали, словно осиновые листья, сановные священнослужители, привыкшие к величанию и угодливости. Их с боязливостью воспринимал каждый христианин, а вот теперь — они перепуганы насмерть.
— Стража!
Ворвались черные опричники, скрутили перво-наперво архиепископа, следом и остальных из клира церковного, уволокли всех их в кельи для охраны зоркой до слова царского. А тут и князь Салтыков с подмогой. Всех церковных служек, всех чернецов, собранных из многих монастырей в услужение боярам московским и опричной рати, тоже повязали, заполнив ими самою церковь.
Лев Салтыков — к царю:
— Что повелишь рабу твоему дальше? Прежний урок исполнен.
Иван Васильевич хмыкнул:
— Не урок, а начало урока, — и духовнику своему Евстафию: — Тебе оголять храм Софийский! Чтоб до нитки все! Затем к Малюте: — Бери Богдана Бельского в подручные, он знатно потрудился в городе до приезда нашего, пусть отблагодарит себя, и оголяйте все церкви и монастыри в городе и окрест его. Монахов и настоятелей свозить сюда. Каждому установить откупные в двадцать рублей. Кто не уплатит, на правеж.
Да, вот это всем урокам урок. На добрую неделю неусыпного труда, итог которого — великое богатство.
На городище, в стане опричного полка, как грибы росли новые шатры, в которые укладывали после старательной переписи дьяками и подьячими привозимое на пароконках: иконы в дорогих окладах, кресты бесценные, утварь церковную, золотую и серебряную, а также и деньги, полученные от свезенных в детинец монахов.
Великий грабеж. Полное разорение обителей Господних.
Не счесть было трупов служителей Божьих. Правеж — улыбчивое слово. Кто не мог внести двадцати рублей, а таких было большинство, забивали палками до смерти, уплатившие же мзду едва успевали развозить трупы собратьев своих по монастырям и предавать их земле.
Лишь к концу второй недели закончилась эта кровавая карусель и подоспело время для замерших в ожидании своей участи горожан. Они хотели надеяться, что авось их минует чаша гнева, столь свирепо излитая на церковников и монахов, но надежды те были очень зыбкими. Даже ремесленный люд сложил инструменты в долгий ящик.
Началась вторая часть казней тоже с пира в архиепископских палатах, на который званы были посадники, и степенные, и бывшие, тысяцкий, царев воевода и царев наместник с его боярами. Попотчевав гостей именитых и выслушав их низкопоклонные здравицы в свою честь, Грозный объявил со зловещим спокойствием:
— Завтра начну суд чинить. С корнем стану корчевать измены. С вас первый опрос. Не без вас же письмо писано. Но даже если мимо вас прошло, все одно вы в ответе. Ферязи[12] алые носить ловко, не блюдя интересы державные, интересы государя вашего, и повысив голос: — Поскидаю я с вас камку[13] и бархат золотом и жемчугом шитые!
Но удивительно, под стражу не взял никого. Отпустил по домам. Когда же гости разъехались, позвал в опочивальню свою всех советников. Не обошел вниманием даже Бельского, что весьма порадовало и самого Богдана, и наставника его, Малюту Скуратова: увидел, значит, Иван Васильевич в нем преданного и ловкого в исполнении трудного урока слугу.
— Что скажете, слуги мои верные, где вершить суд? Здесь ли, в детинце, или на том месте, где Рюрик Вадима казнил, а потом собиралось вече?
— Позволь, государь мой, слово молвить? — с поклоном спросил Малюта Скуратов.
— Говори.
— Бога мы, государь, не прогневили, наказав знатно церковников и монахов на виду храма Святой Софии, по делам и честь им. А вот крамольников не священного ряда можно ли будет лишать жизни здесь, у подножия соборного храма?
— Значит, у Ярослава двора?
— И там нет резона. Не лучше ли на зажитье, в стане полка твоего? Возмущать горожан стоит ли лишний раз? Повели Богдану Бельскому, кто доказал свою умелость, доставлять на суд изменников по сотне или по две каждый день. Осужденных после пыток на казнь сбрасывать в Волхов.
— Но новгородцы не увидят в назидание себе и потомкам своим, как царь карает за измену?
— В страхе пару недель поживут, на дома крамольников разрушенные поглядят, вразумеют обязательно.
Иван Грозный долго молчал, затем вскинул голову, осененную какой-то задорной мыслью, и молвил окончательное слово свое:
— Так и поступим, верный мой советник. Но прежде архиепископа повозим по городу. Верхом на старой кобыле. В худой одежонке, с бубном и волынкой в руках, аки скомороха. Я сам и вы, слуги мои, пеше за ним последуем. Да чтоб народ весь глазел! Плетьми выгонять, если кто по доброй воле не покинет дом свой.
— Эта забота на мне, — покоренный выдумкой царя Грозного воскликнул Малюта Скуратов. — И на Богдане.
Когда же Иван Васильевич отпустил советников своих, Малюта посоветовал любимцу:
— С архиепископом не выпяливайся. Бди лишь, чтоб на царя не покусились. А когда станешь на суд доставлять, расстарайся. С выдумкой чтоб. Пораскинь умом, как ловчее угодить Ивану Васильевичу. Я же приготовлю все для пыток и казней. Ублажим царя-батюшку.
То ли душевность прозвучала в последних словах Малюты, то ли насмешка — Богдан не очень-то понял, и все же иными глазами посмотрел на опекуна своего.
«Вот тебе и служи во дворце, воспринимая это как дар Божий?!»
Выходит, Малюта не кукла скоморошная, на пальцы надетая, а со своими одежками, со своими мыслями, которые никому не открывает, даже ему, Богдану, которого опекает и наставляет. Случайно, видимо, это «царь-батюшка» вырвалось. А может, это очередной урок, как вести себя вблизи царя, где каждый завидует каждому и любой промах дорого обходится.
Сразу же после заутрени, которую царь отстоял со скорбным ликом кающегося грешника, шутовская процессия выползла из детинца и поплелась по улицам Славенского конца. Впереди — белая кляча с архиепископом-скоморохом, в ветхом армяке и на драном седле; следом, с телохранителями по бокам — царь всей Руси в парче и бархате, самоцветами унизанными; за ним — бояре московские. Тоже в пышных одеждах, словно вырядились по случаю великого праздника. Вышагивают следом за клячей гордо, будто нет по бокам улиц насупившихся новгородцев, по большей части выгнанных из домов упорной силой.