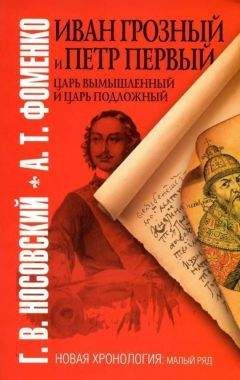Если ко всему этому добавить чисто национальное упрямство Кухаренко, его ленцу, но и его упорство в достижении поставленной цели – представляется совершенно ясным, что компания друзей обладала не только недостатками, но и некоторыми достоинствами, притом недостатки, как водится, уравновешивались, достоинства, наоборот, складывались и в сумме представляли собой силу, достаточную, например, чтобы на развалинах растащенного на дровишки домика построить довольно сносный и удобный для жилья дом. А ведь известно: если из метлы вытаскивать по прутику – можно изломать всю метлу, а прутики вместе – метлы не сломать, если бы даже такое страшное учреждение, как домовый комитет, захотело это попробовать!
В субботу Дротов, по обыкновению, поджидал своих друзей у фабричных ворот. Рабочие по привычке, хоть обыски и отменили, выходили гусем, один за другим, у ворот толпились. На лужах весело кололось весеннее солнце, проезжие извозчики поливали грязью, словно коричневым липким веером.
– Легче, че-ерт!
– А ты рот не разевай! Ра-аззява-а!
– Раззява, не раззява, здрясте, товарищ!
– Вы были на заседании завкома? Обсуждался вопрос о Мопре… Мы порешили всем цехом.
– Ваньку обязательно надоть побоку! Это, я вам доложу, такой карась…
– Да-с, чертеж весьма сложный…
– И куда это центра смотрить? – умов не приложим…
– Куды, куды прешь? Аль зенками-то не зришь?
– Ой, товарищ Дуня, гляньте: Москва-река-те! Хошь семенков?..
– А на гармошке сыграшь?
– Для тебя – что хошь!..
– А я вам говорю, товарищ, что мораль рабочего класса, поскольку она уже выкристаллизировалась…
– Вот ду-лли! Дули!
– Кенскенкин, тебе на Хапиловку? Айда с нами по путе!
– На улице, че-ерт!.. Стыду у тебя нету!
– Итак, товарищ, мы говорили о Мопре…
– Манька! Манька! Не тае! Не тае! Которая с паковочной… Где тебя черти ноосют? Иди сюды!
– И-иду!..
– Наше вам с кисточкой…
Подошли Сиволобчик и Кухаренко. Друзья неторопящимся шагом людей, отработавших свое, пошли вверх по улице.
Дротов сказал:
– Я видел археолога вчера. Он сказал, что спуск назначен на субботу… Сегодня вечером… Сегодня он покупает веревочные лестницы, к девяти просил собраться у Лобного места.
– Не страшно? – спросил почему-то Сиволобчик.
– Э, милый, – просто отвечал Дротов, – нам ли бояться земли? Да и поздно об этом раздумывать… Итак, товарищи, не забыть: мотыги, фонари, пару топоров, хорошо бы отыскать хоть один лом. Мамочкин, товарищ Боб да нас трое… Я думаю, справимся… Я бы сказал: мы должны справиться.
Глава десятая. На ступеньках Лобного места
Часам к девяти вечера, когда Москва уже остывает от торопливого делового дня, когда по Ильинке, по Никольской, по Варварке, гомонившим еще часа два назад советским людом, с портфелями, в которых булки с колбасой, женины ботинки в починку и половинка портвейна на сон грядущий, – редкого увидишь пешехода, да и тот, пожалуй, жулик; когда в черных чанах, вонявших целый день свинцовым асфальтом, – беспризорные, озираясь на «снегиря», прицеливаются устроиться на ночь; а по площади, упершейся в красное на закате небо шпилями Спасской и Василия Блаженного, прорвет засыпающую тишину редкий лихач и цокот подрезиненных его копыт откликнется далеким барабаном, – к Лобному месту подошли три человека и присели на ступеньках. Они были в валяных сапогах, с мешками, из мешков торчали рукоятки топоров, в руках – лопаты, у переднего – лом.
– Обождем, – сказал Дротов.
– Обождем! – отвечали двое.
Кухаренко меланхолически добавил:
– Пойтить махорки поискать, што ли? Под землей без табаку сдохнешь…
– И то верно! – степенно согласился Дротов. – Поищи, товарищ…
Когда он ушел, Сиволобчик нервно спросил:
– Скажи ты, Арсен, на милость… Для чего мы втесались в эту штуку? Есть ли что под землей, нет ли – неизвестно! А если и было – библиотека вся истлела, а золото цари порастаскали… А ты – лезь, да добро бы еще заставляли, а то по своей воле.
– Верно, Семен, по своей воле… Многое мы сделали по своей воле, потому что верили… С верой все можно сделать… Попы верой горы двигали. Мы верой государство двинули. Ужли подземного Кремля не отыщем?.. Ты говоришь, есть ли что под землей? А я тебе говорю – есть. Есть, браток!.. Вороны из-за границы зачем прилетели? Задаром, думаешь? Подземную конку в Москве строить! Держи шире! Когда голодали мы – дали нам из-за границы хушь один завалящий фунт, дали, тебя спрашивают?.. То-то и оно!.. А как поправились – во все полезли. За углем – пожалте нам концессии!.. За золотом – пожалте, мы ручку приложим!.. Почешут нас эти ручки… Так и тут… По старой пословице: гром не грянет – мужик не перекрестится. Теперь, браток, зевать не приходится… Мы не полезем – они полезут, если уже не влезли…
Из темноты мешковато надвинулся Кухаренко, сказал:
– Нашел полфунта, хватит…
Присел, закурил.
В этот момент мимо во второй раз прошла подхрамывающая женщина в кацавейке, когда-то бархатной, в шляпке с пером неизвестной, подъеденной молью птицы и с ридикюлем. Присмотревшись к ней поближе, знающий человек тотчас признал бы «барыню Брандадым», избравшую для вечерней прогулки столь отдаленное место, очевидно, неспроста. Она повертелась подле рабочих, спросила тем мармеладным голоском, каким, по ее мнению, и следовало разговаривать со «всеми этими гражданами»:
– А что, граждане милые, дальние вы будете аль нет?
– А дальние, – безразлично отвечал Кухаренко.
– То-то я гляжу, как будто не наши, не московские… Мамочкина дожидаетесь, Павла Петровича?
– Это ты точно… Мамочкина.
– И я вот Павла Петровича жду, да что-то запропастился… Полезете-то когда? Сегодня аль нет?
Дротов внимательно посмотрел на любопытное птичье перо, однако простодушно ответил:
– Должно, сегодня… Вишь, с лопатами… А ты откуда знаешь?
– Сестра я ему… Боязно за брата, вот и пришла. Так, значит, сегодня, в котором же часу?
– Говорили – в десять.
– Ну-ну… В десять так в десять… Счастливо оставаться, граждане милые…
Рабочие видели, как впрохладку она завернула за угол. За углом вдруг побежала по улице бочком, безобразно задирая юбку, и тотчас мимо, к повороту на Никольскую, вымахнул прорезиненный лихач, тугим цокотом пробарабанив над площадью. На нем мчалась «барыня Брандадым», придерживая на лету перо… Если бы кто-нибудь из них имел возможность проследить за странным поведением гражданки Оболенской в эту памятную ночь, он увидел бы еще, как лихач придерживал на площади Свердлова и из скверика, где днями толчется публика вокруг четырех цветочных портретов, а по вечерам женщины, отнюдь не пролетарского происхождения, прохаживаются с кавалерами в шляпах и котелках, как из этого скверика, пропахшего душистым табаком и «Лориганом», выбежал молодой человек в швейцарских «котлетках», по виду самый исправный иностранец, и на ходу скакнул на подножку… Этот наблюдательный человек увидел бы, как лихач осадил запененную лошадь у подъезда дома, выходившего углами на Софийку и Неглинный, и оба пассажира юркнули в темноватый глухой подъезд. Полчаса у подъезда никого не было. Дом, днем торговый и многолюдный, казался пустым чемоданом. Наконец из него вышли два человека, волоча с собою ящик с лопатами и обернутый в черное прибор, напоминающий по внешнему виду раскрытый фотографический аппарат. В них без труда можно было признать концессионеров, строящих в Москве метрополитен. Они повернули на Большую Дмитровку, крадучись зашли во двор дома, где зиял огромный пробный колодец; шедший сзади, все в тех же швейцарских «котлетках», присвистнул, на свист из колодца застуженный сиповатый бас ответил:
– Есть!
– Надо торопиться, – сказал по-немецки Басов. – Мамочкин точен, он полезет ровно в десять… Я поручил этой дуре задержать его во что бы то ни стало…
– О, мы, немцы, весьма точный народ! – отвечал, высовываясь из колодца, инженер Шпеер, распивавший вчера чай в голубой пижаме: сейчас он был дежурным в дыре, к которой концессионеры никого не подпускали, а дежурили сами, сменяясь каждые шесть часов. Он бережно принял прибор, сунул его в черный рыхлый погреб, потом попробовал глубину шестом и вдруг сразу прыгнул, словно провалился сквозь землю. За ним спрыгнули остальные двое. Они засветили проход электрическими фонариками, потом привалили к проходу доску; на нее сверху была набита глина. Доска сровнялась с землей и сделала место прохода неузнаваемым. Бережно подняв завернутый в черное прибор и лопаты, они двинулись сухим, выложенным в кирпич, сводчатым ходом в подземный Кремль. Это был тот самый ход, которым при царе Алексее Михайловиче бежал из Кремля от разъяренной толпы боярин Морозов, отчего археологи и прозвали его морозовским… Концессионеры по слепому случаю напали на верный путь…