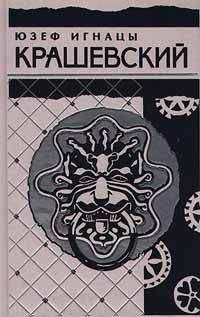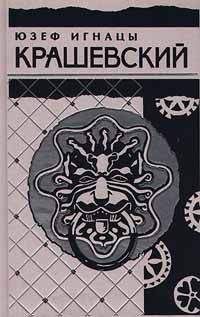Бернард прошелся взад и вперед по комнате.
— Ну, пока довольно, — сказал он, — ступай, делай как сказано и смотри в оба, как она примет вести, как откликнется на них ее сердце. Она — мать.
— Она баба! — поправил Швентас. — Но я много о ней слышал. Жажда мести давно сделала из нее мужчину. Она только одной и дышит местью за того ребенка.
— Тем лучше, — перебил Бернард, — а что будет, когда узнает, что он жив?
Швентас закрыл рот обеими руками и, точно разговаривая сам с собой, стал трясти и ворочать головой. Трудно было разобрать, смеялся ли он, или удивлялся, или беспокоился. Может быть, смеялся, но смех был не такой радостный и откровенный, как раньше.
Бернард подошел к нему и еще раз повторил все, что ему внушал. Холоп, кивая головой, поддакивал каждому слову, а оживленный взгляд доказывал, что он хорошо понял свою роль. Когда Бернард кончил, Швентас еще раз ухватил подол его плаща и поднес к губам. Потом поклонился почти до земли, повернулся и выкатился вон из комнаты.
Бернард остался один. Его не взволновали ни слова великого магистра, несомненно, обидные для кого бы то ни было, распоряжения, данные Швентасу в столь важных обстоятельствах. Ничто не возмутило спокойствия рыцаря, закаленного долгими годами послушания. Он уже опять ходил взад и вперед, обдумывая какое-либо иное начинание во славу ордена, и, стараясь сосредоточиться, временами останавливался, проводя рукою по лбу.
Постучали в дверь… Бернард удивился столь поздним посетителям, однако, пошел и отворил. На пороге, осторожно и медленно переступая, показался с костылем в руке сгорбленный и очень старый человек, одетый в орденское платье. На нем была монашеская ряса без плаща, без креста, без иных отличительных эмблем; но с первого же взгляда чувствовалось в посетителе сознание собственного достоинства, как бы заявление о правах на нечто, ему не предоставленное.
Из-под черной скуфейки, которую посетитель не снял при входе, серебрились белые, как снег, волосы; коротко подстриженная бородка и седые усы обрамляли красивое лицо, изрезанное глубокими рубцами.
Один из них кровавой лентой пересекал нос и щеки; другой глубоким шрамом зиял на виске. Одну из ног, полупарализованную, старец грузно влек за собой; костлявые пальцы рук были опухлы и искривлены.
Весь он представлял развалину; но развалину красивую, вызывающую уважение. Углы рта, изборожденные морщинами, сохранили гордое и мужественное выражение. Но к гордости примешивалась горечь, дышавшая сарказмом и тоскою.
Гость был старейший из рыцарей-крестоносцев, подвизавшихся на литовской границе: Курт, граф Хохберг, родом с Рейна. Несколько десятков лет тому назад, после семейных неурядиц и бурной жизни, он выбрал себе уделом борьбу с язычниками и остался здесь на всю жизнь.
Израненный в боях, неоднократно остававшийся лежать на поле битвы в числе павших, всегда искавший смерти и чудом от нее спасавшийся, он потерял всякие земные связи и точно прирос к своему каменному гробу. Братья неоднократно хотели избрать его комтуром или казначеем; сам он, несомненно, мог претендовать на звание великого магистра; однако, подобно Бернарду, он всегда открещивался от бремени начальственного положения и почти в равной с Бернардом степени горячо интересовался только судьбами немецкой колонии меченосцев в этом крае, близко принимая к сердцу ее интересы.
Но Бернард жил еще кипучей деятельностью; Курт уже только жаловался и ворчал, да усердно выслеживал всякие измышленные новшества. Старинные заслуги заставляли братию выносить его причуды, хотя порой он подносил им слишком печальные истины.
Старый граф редко выходил из своей комнаты; а осенью или зимою, когда в особенности ныли поломанные кости, он целыми днями просиживал у камелька, закутанный мехами. Визит его к Бернарду был событием, и тот сейчас же догадался, что приход графа находится в связи с нападками великого магистра.
Курт счел долгом, раз брата постигло огорчение, придти к нему с выражением сочувствия.
— А что! А что! — воскликнул он с порога. — Мастер Людер показывает зубы! Не терпит, чтобы кто-либо, помимо него, смел проявлять здесь инициативу! Уж придрался к вам!
Бернард равнодушно пожал плечами.
— Жаль мне вас! — продолжал шепелявить монотонно старец. — Жаль сердечно!.. И конца этому не будет! Молодые станут теперь переделывать на свой лад наш старый орденский устав, пока не обратят святые правила в посмешище.
И дрожащею рукой он делал в воздухе угрожающие жесты. Бернард, видя, с каким трудом он держится на больных ногах, пододвинул ему единственную скамейку. Курт сел со стоном.
Хозяин знал, что будет: предстояло выслушать от начала до конца все, что накопилось в измученном сердце и наболевшей голове старого крестоносца за много лет молчания.
— Помню, — начал граф, отплевываясь и не давая Бернарду сказать слова, — другие времена, других людей… помню исконный устав наш, такой, каким принесли его сюда из Палестины… одно только могу теперь сказать: его ведут к погибели! Бога уже нет… устав в пренебрежении… рыцари разбойничают… Разврат! Заносчивость!.. Чем дальше, тем хуже!
— Будущее представляется мне далеко не таким мрачным, — начал Бернард.
— Потому что ты сам слишком добр! — перебил Курт. — А, по-моему, дела очень плохи! Моим глазам не суждено уже увидеть… но орден падет, как мул в пустыне, отягченный золотом; и враны выклюют ему бока и растащат внутренности…
Бернард собирался выступить в защиту ордена, но старик не дал ему сказать слова.
— Ты мало помнишь былые наши годы, — начал он, — времена были иные, лучшие. Дух был иной; мы на самом деле были рыцарями Креста Господня и настоящими монахами… а теперь мы рыцари-разбойники! К походу мы готовились постом; шли, величая в песнях Богородицу; не надо нам было ни удобных постелей, ни золотых цепей на шее, ни вина для подкрепления в пути, ни компанов, ни толпы слуг для несения оружия и тяжестей. Все были равны… а ныне?!
— Мы и теперь не чувствуем неравенства, — молвил Бернард.
— Вот тебе на! — вставил Курт. — А откуда взялись серые плащи? У кого в восходящем поколении нет четырех гербов, ведь должен носить серый? А такой же дворянин, как и другие! Герб гербом… а кто не богат и кому никто не ворожит из сильных, так будь он расхрабрец, а на него напялят серый! А эти серяки дерутся лучше беляков! Вот тебе на! — повторил еще раз, ворча, старик. — Давно ли великий магистр завел компана… а теперь уже всем бе-лоплащникам они понадобились… да не по одному, одного будет скоро мало. В давние времена только в великие праздники давали кубок подкрепительного, а теперь его разносят флягами по кельям. Прежде ни у кого не было даже собственного одеяния, а теперь ни один белый не пойдет в гости без шейной цепи, а у иных туго набиты сундуки. Прежде нельзя было слова молвить с женщиной, а теперь?.. Хе! Теперь у начальства по городам завелись лапушки…
— Отче! — перебил Бернард с упреком.
— Брате! — сказал старик. — Я не лгу и не осуждаю, а говорю правду, как Бог свят! И только потому, что у меня сердце разрывается, потому что любил и люблю святой орден Креста Иисусова и гнушаюсь орденом Вааловым…
Он вздохнул.
— Какой конец! — воскликнул он после нескольких минут молчания, вперив в пол угасшие зрачки. — Такой же, какой постиг храмовников! Возможно, еще худший! Короли польстятся на наши богатства, а папа отречется от своих заблудших сыновей.
— Но ведь, слава Богу, мы еще не богоотступники и не идолопоклонники, как тамплиеры, — возразил Бернард.
— Формально, нет; на деле, да! — воскликнул старец. — Кто не живет по Божьему, тот отступил от Бога.
Измученный, Курт задыхался и прижал руку к бурно колыхавшейся груди.
— Благодарю вас за сочувствие, — вставил, пользуясь перерывом, Бернард, — только я не так сильно принимаю к сердцу слова Людера. Пусть действует и думает, как хочет; я буду продолжать начатое дело.
— А я свое, — сказал старик, — смелые речи также на что-нибудь да пригодятся, раз уже не хватает сил в руках.
Он вздохнул и спросил более мягким голосом:
— Что ж значит? Гневается из-за того юнца, которого вы воспитывали по человечеству и по христианству и поступили вполне разумно! Он и этого понять не хочет!
И Курт засмеялся иронически.
— На беду он у меня расхворался, — сказал Бернард.
— Поправится! — ответил равнодушно старец. — В его возрасте болезнь не страшна. Пусть подрастет. В нем бунтует кровь. Посадить его на коня и дать перебеситься!
— Отец-госпиталит сказал, что на коня ему уже не сесть, — грустно молвил Бернард.
— Отдайте его на службу кому-нибудь из комтуров: пусть будет ему немного повольготней, — пробурчал старик.
— Я также о том думал, — сказал Бернард, — давал такие же советы….