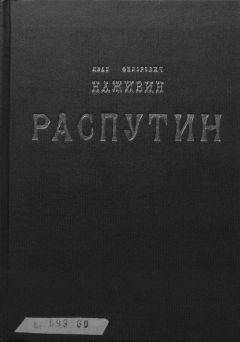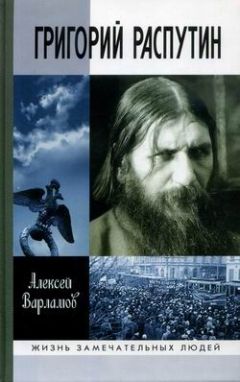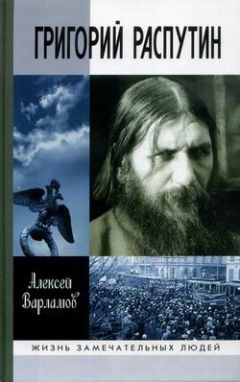Но Елена Петровна, вспыхивая, напоминала о недавнем расстройстве желудка, когда девочку накормили Бог знает чем — это были пенки с чудесного малинового варенья, которым славилась вообще мастерица на эти дела Анфиса Егоровна, — говорила о требованиях гигиены, ссылалась на книгу Жука{16}, которая была для нее высшим авторитетом. Евгений Иванович, невольно раздражаясь, возражал. Елена Петровна справедливо, но ужасающе грубо замечала, что мать его невежественна, что из ее восьмерых детей выжил только один Евгений Иванович, что она не хочет быть убийцей своих детей и прочее. И Евгений Иванович с неприятно бьющимся сердцем торопился уйти к себе, а Елена Петровна раздраженно бралась за последнюю книжку какого-нибудь толстого журнала, которые она читала не столько с удовольствием, сколько из чувства какого-то странного, кем-то придуманного долга. Ей казалось, что это совершенно необходимо, чтобы быть на уровне своего времени, чтобы не опуститься в это ужасное провинциальное болото, чтобы не обрасти мохом. Лучшим средством для этого, по ее мнению, было чтение вот этих журналов, строгая критика правительства и длинные и горячие рассуждения о том, что сказал Жорес или Бебель.
Евгений Иванович чрезвычайно крепко и совершенно неожиданно для самого себя привязался к детишкам, и огромною радостью было всегда для него, когда ребята, тоже его очень любившие, прибегали в его комнату и, усевшись к столу, начинали рисовать своих первых дядей, диких существ с выпученными глазами и бесконечным количеством широко растопыренных пальцев. И между отцом и матерью началась нелепая, но упорная глухая борьба за сердце детей, и часто бархатные застенчивые глаза Сережи и голубые, как небо, глазки девочки, чуявших вокруг себя эту глухую и темную борьбу, с недоумением переходили с лица матери на хмурое лицо отца и опять на лицо матери, и Евгению Ивановичу становилось тяжело и немного стыдно, но поделать с собой он ничего не мог.
— Можно? — спросил от двери низкий и ласковый женский голос.
— Можно, можно, Федосья Ивановна… — отозвался Евгений Иванович, снова отодвигая тетрадь.
В комнату с большим, устланным чистой, в свежих складочках салфеткой подносом в руках вошла полная, чистая, благообразная, благостная, с двойным подбородком Федосья Ивановна в свежем переднике, которую старик Василий, дворник, величал домоправительницей, хотя она была только горничной: так была она величественна. Анфиса Егоровна терпеть не могла всяких этих новых вертелок с кудряшками и крепко держалась за свою помощницу, серьезную, работящую и набожную, как и она сама, и свято блюдущую старинку.
— С добрым утром, Евгений Иванович… — ласково приветствовала хозяина Федосья Ивановна, ставя на стол поднос с душистым кофе, свежими булочками и густым топленым молоком и свежим, еще пахнущим типографией номером «Окшинского голоса».
— С добрым утром, Федосья Ивановна! — отвечал он. — А как дети?
— Встали… — отвечала Федосья Ивановна. — Сейчас хотели к вам бежать, да мамаша приказали сперва позавтракать…
И в ту же минуту по коридору затукали быстрые ножки, и в комнату вбежал Сережа, черноголовый бледный мальчик с бархатными застенчивыми глазами, и беленькая, розовая, пушистая голубоглазая девочка. И сразу от порога она бросилась на шею к просиявшему отцу. Оказалось, ей пришла в голову замечательная мысль: как только у нее отрастут ноготки, мама сейчас же остригает их, а папа у Мурата не остригает, и он стучит ими по полу, бедненький, и ему неудобно. Надо сейчас же остричь их…
— Ну что же, остриги… — сказал отец, смеясь. — Вот ножницы… Девчурка торопливо направилась к собаке, которая ласково смотрела на нее своими умными каштановыми глазами и упругим хвостом стучала по коврику. Наташа завладела сильной, мускулистой лапой Мурата и стала пристраиваться для предстоящего туалета. Мурат ласково лизал маленькие ручки и тыкал в них холодным носом: он не понимал, что это будет, но он знал, что никто его здесь не обидит.
— Да постой же ты со своим лизаньем! — нетерпеливо говорила девочка. — Ну, лежи же смирно! Ой, папик, какие у него крепкие ногти — ножницы не режут. Да постой же, глупый, — тебе же лучше будет!.. Пап, он не дается…
Сережа с покровительственной улыбкой смотрел то на нее, то на отца, как бы говоря: ах уж эти маленькие!
Дверь отворилась, и в комнату вошла Елена Петровна, уже располневшая блондинка в довольно мятом утреннем платье, небрежно причесанная. Увидав дочь с большими ножницами около собаки, она сразу пришла в ужас и, забыв даже поздороваться с мужем, строго обратилась к дочери:
— Это еще что за глупости, Тата?! — воскликнула она, и когда та, путаясь от волнения, рассказала ей о своем проекте, она с раздражением обратилась к мужу: — Как можешь ты допускать такие глупые шалости? А вдруг она обрезала бы ему лапу, и он укусил бы ее?
— Мурат?! Ее?! — насмешливо бросил Евгений Иванович. — Скорее я укушу вот Федосью Ивановну, чем Мурат Наталочку…
Федосья Ивановна тихо скрылась из комнаты: она знала, что у молодых давно нелады, и стеснялась этим.
— Не понимаю, как можешь ты ручаться за всех собак! — вспыхнув, сказала жена раздраженно.
— Не за всех, а только за Мурата… — поправил ее, отводя глаза в сторону и чувствуя уже привычное и неприятное сердцебиение, Евгений Иванович. — Наташа может отрезать ему лапу, а он все же не тронет ее. Ну, дети, возьмите Мурата и выпустите его погулять в сад… — обратился он к детям, чтобы поскорее покончить неприятную сцену. — Только смотрите, чтобы калитка на улицу была заперта…
— Знаю, знаю… — крикнула девочка и тотчас же повелительно скомандовала: — Ну, Мурат, гулять!
Мурат, оживленно вертя хвостом и стуча когтями по полу, пошел за детьми. Елена Петровна, идя следом, с подчеркнутой заботливостью предупреждала детей об опасностях лестницы. Евгений Иванович, забыв о кофе, опустил голову на руки и думал о чем-то тяжелом. Он был недоволен собой. Тысячи раз давал он себе слово быть сдержаннее, не раздражаться и — не мог. Его цензор был не всегда достаточно бдителен…
Уже вечером Евгений Иванович все в прежнем подавленном и грустном настроении вышел из дому, чтобы идти в редакцию. Хотя с газетой он и порвал совершенно, но иногда любил вечерком посидеть там и послушать разговоры и споры ее сотрудников. На обширном зеленом дворе среди старых лип, тополей, черемух и сирени стояло четыре старинных флигеля: два по улице и два во дворе, над рекой. Старик Василий, звонко стуча молотком, починял в сумерках забор. Увидев хозяина, он бросил молоток и подошел. Это был ширококостый седой мужик с ясными, совсем детскими глазами. Отличительной чертой старика было его изумительное мягкосердие: чуть что, и на голубых глазах его уже стояли слезы умиления. И видел он жизнь как-то по-особенному. Раз как-то попал он свидетелем в окружной суд. И вот когда защитник говорил свою речь, Василий плакал от умиления: «Верно, все верно! Как не пожалеть человека?! Кто без греха?» — но когда заговорил прокурор, Василий никак не мог не согласиться и с ним: «Верно, все верно! Потому, ежели одному дать озоровать, другому, тогда и всех на дурное потянет. Он вот поозоровал, а дети-то остались сиротами, а старуха ни за что ни про что на тот свет отправилась! Проштрафился — терпи, брат…» И ему самому было чудно, что он согласен со всеми, что во всем он видит правду, и он плакал от сознания этой своей слабости, и стыдился своих слез. Евгений Иванович любил старика и пытливо всматривался в него.
— Ну в чем дело, старина? — спросил он.
— Да в шестом номере, у Сомовых, опять водопровод испортился… — сказал старик. — Сичас ходил к Гаврику — обещал завтра мастера прислать. Только колено придется поставить новое…
— Ну и отлично… — поторопился согласиться хозяин, на которого эти разговоры наводили всегда такое уныние, что часто он малодушно прятался от Василия, предоставляя ему сделать все так, как он сам находит лучше. — А не видал, в редакции наши собрались уже?
— Петр Николаевич, видел, прошли, а других что-то не приметил… — отвечал Василий. — Да эта сорока-то еще… как ее?.. Ну, жена ентаго… епутата-то…
— Нина Георгиевна? Что ты как все ее не любишь? — засмеялся Евгений Иванович.
— Ну, что там… Бог с ней совсем… — неодобрительно махнул рукой старик. — Легкая женщина… Да и муж тоже не за свое дело взялся. Ежели ты, скажем, дохтур — лечи, вакат — жуликов там всяких обеляй, а ентот в Питер, в Думу, к самому царю пролез, менистров так и эдак чехвостит. К чему это пристало? Негоже делают? Так возьми да и сделай лутче. Языком-то всякий может вавилоны разводить — нет, ты вот на деле-то себя покажи… И фамилия опять же какая-то чудная — не то он из русских, не то чухна какая, не то жид… Нечего бы вам, батюшка, связываться с ими… От греха подальше лутче…