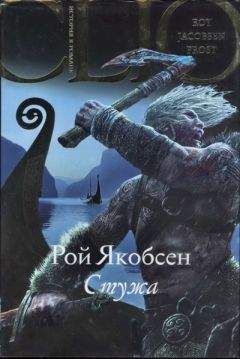Гест устроился спать в хлеву, (при скотине он всегда так делал, когда наезжал Стюр), оттуда его и привели к хёвдингу. Тот внимательно оглядел его, отметил, что ростом он по-прежнему мал да и вообще неказист, а затем осведомился:
— Какую же работу ты исполняешь, мальчик?
Гест не отвечал. Стоял и прищурясь смотрел в живые омуты Стюровых глаз, где не мог прочесть ни издевки, ни дружелюбия. Торлейк почел за благо вмешаться, сказал, что аккурат сейчас мальчонка режет торф, причем с большой сноровкой, и добавил:
— Он и во всем другом весьма ловок.
— Так-так, торф, стало быть, режет, — задумчиво проговорил Стюр и повторил эти слова несколько раз, потом перевел взгляд на Торлейка и сказал, что, пожалуй, ни ему, ни другим нечего опасаться от этого бедолаги. — Однако ж, коли, по-твоему, надобно что-то сделать, то я могу дать ему серую овцу, которая никак не приживается в Бьярнархавне, даже шерсть на ней не растет. Думаю, как вира она вполне сгодится, но больше он ничего не получит.
Онунд хрипло рассмеялся, кое-кто из воинов тоже насмешливо фыркнул. Гест и бровью не повел, даже когда Торлейк возмущенно вскочил и предпринял еще одну неудачную попытку вразумить хёвдинга. Мальчик просто повернулся к ним спиной и спокойно вышел вон, но в хлев не вернулся, зашагал к ручью и там, на берегу, нашел Аслауг.
Сидя рядышком, брат с сестрой смотрели на водяное колесо, чьи лопасти лениво подхватывали с поверхности незримые, прозрачные пластинки льда и снова роняли их на воду, точно звенящие стеклышки. Говорили они о том, что надо бы убрать его на зиму, потом Аслауг спросила, помнит ли Гест отцов рассказ про Тюра, бога войны и справедливости, ну, тот, где речь шла о праве сильнейшего. Он сказал, что помнит. А вот Аслауг путалась, Гест поневоле то и дело поправлял ее, и в конце концов у него возникло тягостное ощущение, будто сестра ошибается нарочно, чтобы он ее поправлял, знакомый приемчик, точно так же она действовала, желая, чтобы он взбодрился или сделал работу, от которой норовил увильнуть, а потому решительно сказал, что сейчас не до рассказов, нужно достать колесо из ручья, пока лед его не раздавил.
Вдвоем они отнесли колесо в хлев, подвесили под стропилом как сугубо летний инструмент, как вещь, которая вновь оживает лишь с возвращением лебедей и кажется тогда сразу и чужой, и хорошо знакомой, ведь они так долго ее не видели, что успели забыть, какова она из себя. На ночлег оба устроились здесь же, подле скотины. Правда, спали недолго: кто-то стоял и смотрел на них, и была это мама.
— Что случилось? — спросила Аслауг.
— Я просто хотела повидать вас. — Мать улыбнулась, совершенно как раньше, когда в здешнем мире еще не было Эйнара, перевернувшего всю их жизнь. — Тепло ли вам под меховым одеялом?
— Тепло, — отвечали они и подвинулись, чтобы она могла лечь между ними.
Наутро Стюр и его люди уехали. А тем вечером, когда в Йорве ожидали их возвращения, Гест, по обыкновению, сидел на холме, присматривал за овцами. Он опять достал нож, к которому не прикасался несколько лет, тщательно навострил его и, вырезая на топорище рыбью голову, вновь ощутил тепло, струящееся от рукояти к ладони и обратно. Как вдруг светлое дерево окрасилось кровью. Гест внимательно осмотрел свои руки — ни одного пореза, однако ж кровь не унималась, капала из рыбьего глаза на сырой снег. Он пропел вису[16] — не забыл, оказывается! — встал и зашагал в усадьбу, отыскал на поварне Аслауг, показал ей топорище и спросил, что может означать эта кровь. Сестра с улыбкой посмотрела на него, взяла в руки топорище, оглядела со всех сторон и удивленно воскликнула:
— Что ты городишь? Нет тут ничего.
— Я вижу кровь, — сказал Гест.
— Может, приснилось тебе?
— Мне снится только то, что уже случилось. Снятся Эйнар и отец. Случившееся дважды может случиться вновь.
Аслауг села, а Гест смотрел на нее и думал, что за эти годы сестра стала совсем взрослой и в своем белом льняном платье очень похожа на мать. Она опять поднялась и с улыбкой сказала, что грядут очень важные события.
— Ты знаешь, что должен сделать?
Гест кивнул, надел на топорище головку, закрепил для прочности клинышком, Аслауг же все это время пристально наблюдала за его руками. И тут, глянув в оконце, они заметили внизу, у брода, вереницу всадников — вернулся Стюр со своим отрядом.
Стояла поздняя осень, вдоль берегов Хитарау лед уже окреп, однако на стремнине до сих пор клокотала открытая вода. Только у Стюрова коня подковы были с шипами, остальные лошади оскальзывались на наледях, поток захлестывал их, приходилось плыть, превозмогая течение, и когда отряд подъехал к усадьбе, кони и люди вымокли до нитки.
— Так я и думала, — пробормотала Аслауг и пошла к задней двери большого дома.
Торлейк, как обычно, встретил гостей приветливой улыбкой, распорядился развести в большом доме огонь пожарче и сказал, что Аслауг и его сестры просушат их одежду на поварне. Воины разделись, ругаясь на чем свет стоит и стуча зубами. Аслауг собрала одежду в охапку, вынесла в поварню, распихала по большим чанам, хорошенько полила водой и выставила на мороз.
Гостей снабдили сермяжными и меховыми одеялами, подали еду, мало-помалу они повеселели, но иные тотчас начали сетовать, что-де Торлейк скупится на дрова. Сперва он прикинулся, будто не слышит. Однако сетования не умолкали, поэтому Гест встал и вызвался сходить за дровами. Вышел во двор, набрал охапку сырых сучьев, вернулся в дом и бросил их в огонь. В комнате немедля стало темно от дыма и чада. Гест шмыгнул за перегородку, в помещение, где прежде ночевал Эйнар, и очутился у Опора за спиной, сквозь щели меж досками он смутно различал затылок хёвдинга. Сердце у него замерло. Неясные фигуры, полуголые тела бестолково топтались в дымной мгле, слышались неуверенные смешки, хриплый кашель, брань. Стюр, однако, сидел спокойно и вроде как забавлялся. Гест по-прежнему стоял в оцепенении. Смотрел на лысый череп с темной вязью жилок над венчиком седых волос. И тут сердце его вновь встрепенулось. Со всей силы он нанес удар, вскрикнул, когда кровь брызнула прямо в лицо, не выпуская из рук топор, метнулся к черному ходу и только на улице обнаружил, что лишился не зрения, а света.
Стюр ничком рухнул в дымящий очаг и более не шевелился, один лишь сын его сообразил, что произошло, вытащил отца из горящих углей, осмотрел обожженное лицо и громовым голосом — Гест на улице и тот услышал — отдал воинам приказ догнать убийцу.
Но Гест к тому времени успел надеть теплую одежду, заранее приготовленную сестрой, нацепил на ноги «кошки», бегом спустился к реке, к самому узкому месту, одним длинным прыжком перемахнул через поток и остановился на другом берегу, наблюдая за преследователями: то и дело падая, они спешили вниз по обледенелому склону, по-прежнему полураздетые, сын хёвдинга Онунд мчался впереди, босой, размахивая обнаженным мечом. Он хотел было прыгнуть следом, но замешкался при виде клокочущей воды. А вдобавок заметил, что на ногах у Геста «кошки» и в руках топор.
— Это не я! — крикнул Гест, ухмыляясь и гримасничая. — Не я! Не я!
Онунд не двигался с места, лед обжигал ему ноги, Гест слышал, что он бранится, и видел, как он из стороны в сторону мотает головой, словно разъяренный пес. Потом Онунд повернулся и исчез во мраке.
Обогнув громаду Сварфхольсмулы, Гест по заднему склону горы взобрался на вершину и оттуда посмотрел вниз, на Йорву, где Аслауг воткнула в снег горящий факел — знак, что она цела-невредима. Но здесь, в поднебесье, он разом почувствовал изнеможение, силы оставили его, а он так в них нуждался, чтобы продолжить путь, ведь кругом раскинулось необозримое безлюдье.
Только сейчас Гест заметил, что все еще сжимает в руке топор, расслабил хватку, повесил оружие на плечо и собрался начать спуск, но внезапно сообразил, что Сварфхольсмула выше всех прочих исландских гор, вулканов и ледников, что отсюда можно увидеть все дома, заглянуть под заснеженные крыши, сдвинутые в сторону могучей дланью, которая решила показать усомнившемуся то, что там сокрыто, — людей в их будничной жизни, спящих в теплых постелях, детей и супружеские пары, рабов-трэлей и хёвдингов. Голова у него кружилась, и когда он, сам того не заметив, очутился на дне долины Храундаль, где снежная буря обрушила на него всю свою мощь, дневной свет так и не забрезжил; Гест ждал дня, а день не наступал, и потому он забрался под скальный уступ, зарылся в снег и исчез.
Уснул Гест, лежа на топоре, и разбудила его боль в спине. Выбравшись из-под снега, он сообразил, что уже вечереет и ветер ничуть не стих, хорошо хоть, света пока достаточно, можно сориентироваться, и он зашагал дальше, на восток, той же дорогой, какой шел отец, сумел на ходу согреться, а спать ему не хотелось — от голода; опять стемнело, пришлось искать затишное местечко и сызнова ночевать под снежным одеялом, однако и на сей раз он выбрался наружу и определил свое местонахождение по давним рассказам и безмолвным ликам гор. Лишь следующим вечером Гест вышел к какой-то усадьбе; если он не ошибся в расчетах, располагалась она на окраине Боргарфьярдара и звалась Мелур — убогая глухомань, но жили там дальняя родственница матери, Гуннхильд, и ее муж Халльдор. Гест лупил топором по укутавшему дом плотному снегу, пока не нашел входную дверь, распахнул ее и рухнул на утоптанный земляной пол, чувствуя, как в лицо ударил свет, и думая о том, что ему по душе белые ночи, но белые не от льда, а от света, с которым возвращаются лебеди, и не по душе далекие голоса, вопрошающие, кто он такой.