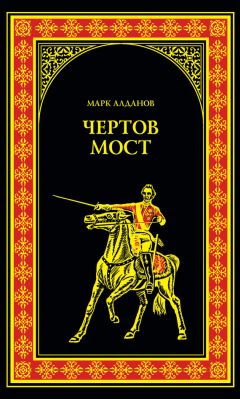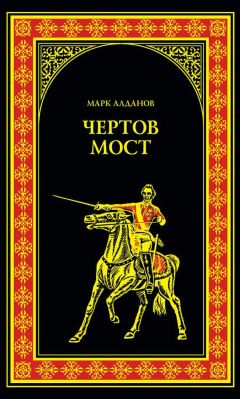Свита принцесс разместилась во множестве других саней, эскадрон кирасир великого князя выстроился вокруг поезда, и поезд понесся в Петербург. Эта поездка осталась в воспоминании Фике как длинный чудесный сон. Все было здесь не похоже на ее родину: необычайный простор земли; роскошь высокопоставленных людей; странные, неправильные, азиатские черты лица попадавшихся прохожих; непривычная развалистая походка пешеходов; а главное — необычайный размах, ширь во всем, раздолье, о котором у них никто не имел понятия. Она все больше и лучше понимала, какое неслыханное, небывалое счастье сваливается ей на голову, и странные, честолюбивые мысли впервые пришли пятнадцатилетней девочке…
Успела она также в дороге обратить внимание на всех сопровождавших ее мужчин — от высших лиц свиты до простых кирасир, — причем быстро отметила и выделила красивых. Видавший вид камергер Нарышкин искоса поглядывал на девочку, на ее неправильные черты, на голубые глаза, оттененные черными ресницами, на пухлый рот и выдающийся подбородок, и думал про себя, что из маленькой немки будет толк.
Неслыханные почести ждали принцесс ангальт-цербстских в Петербурге, а затем в Москве, где тогда временно находился двор. Императрица и великий князь приняли их «auf tendreste»[30]. В день их приезда, вечером, в отведенные им апартаменты Головинского дворца торжественно явился старый друг Брюммер, воспитатель великого князя. Иоганна-Елизавета и Фике сразу заметили, что der alte Kerl[31] строго выдерживает новый тон. Россию он называл «нашим славным отечеством», а императрицу Елизавету «нашей великой государыней». Приняв во внимание, что подданным императрицы и русским человеком Брюммер сделался два года тому назад, Фике порешила, что она еще скорее станет русской женщиной и великой княгиней. Брюммер много рассказывал о великолепии петербургского двора, ни в чем не уступающего версальскому; о размерах русских дворцов; а также о мудрости, доброте и добродетели императрицы Елизаветы, которая навсегда отменила в России смертную казнь, в чем поклялась на образе святого чудотворца Николая. Больше, однако, поразило немецких принцесс то, что у Елизаветы в гардеробе имеется пятнадцать тысяч платьев, пять тысяч пар башмаков и два сундука шелковых чулок. Как ни много удивительных вещей видели в последнее время принцессы в Петербурге и Москве, эти цифры совершенно поразили их воображение: сами они привезли из Германии по три платья и по одной дюжине белья. Нагнал на них робость и общий тон речи Брюммера. Впрочем, несколько позже, когда они робко вынули привезенные ими ему подарки: пять фунтов настоящей, непортящейся штетинской колбасы, две бутылки настоящего старого иоганнисбергера, шелковый кошелек и кисет для табаку, Брюммер расчувствовался, вспомнил Цербст, Штетин, Киль, госпожу Брандорф, старый Рейн, прослезился и перестал называть Россию нашим славным отечеством. Они тут же втроем распили бутылку настоящего старого иоганнисбергера, закусили настоящей, непортящейся штетинской колбасой, после чего у Брюммера развязался язык и характер его сообщений стал несколько иной. Оказалось, что хотя в гардеробе Елизаветы есть пятнадцать тысяч платьев, но денег в русской казне нет, и, кроме как на содержание двора, да еще на армию, ничего ни на что расходовать нельзя. И хотя смертная казнь в России навсегда отменена, — согласно обычаю, по которому всякое новое русское правительство первым делом навсегда отменяет смертную казнь, — но языки и уши режут людям, часто большими партиями, что ни день. И хотя сама императрица образец монархини, но все-таки нехорошо, что она частенько напивается водкой до бесчувствия, как кильский извозчик. И хотя она дочь великого Петера, но мать ее была по профессии такое, что и сказать при барышне невозможно; а дядя, граф Федор Скавронский, еще совсем недавно был ямщиком, ein Kutscher! И хотя императрица ангел, но поведение ее… Правда, знатные дамы могут иногда позволять себе вольности — тут Брюммер подозрительно поглядел на Иоганну-Елизавету, — однако нужно знать, с кем можно их себе позволять и с кем нельзя. Против благородных риттеров он, Брюммер, не говорит ни слова, но путаться императрице, einer Kaiserin! с конюхом ist wirklich unerhoert![32] Что касается нашего Карла-Ульриха, то это был шелковый мальчик в Киле, где он, Брюммер, держал его в руках и всего еще два года тому назад основательно порол за шалости; а с тех пор, как Карл-Ульрих стал в России великим князем Петром Федоровичем, к нему подступиться нельзя: совершенно испортился и, чего доброго, плохо кончит. А вообще, хотя Россия, конечно, великая страна, имеющая громадное будущее, но понять в ней и в этих московитах решительно ничего нельзя. И если говорить правду — ему хорошо известна дискрецион[33] обеих принцесс, — то Цербст, не говоря уже о Киле, много лучше России, Вот только жалованья в Цербсте и в Киле, к сожалению, платят мало и никакой серьезной карьеры там сделать нельзя; а то и уезжать оттуда было бы совершенно не нужно.
Все это было очень, очень давно. Пятнадцатилетняя девочка превратилась в старуху: Фикхен стала императрицей Екатериной Великой. Позади были кровавые вехи длинного пути, удачи, неудачи, страшные дни «Петербургского действа» и пугачевщина, очень было перепугавшая царицу.
Царствование ее было удачным. Как добросовестная немка, Екатерина старательно работала для страны, которая дала ей такую хорошую и выгодную должность. Счастье России она естественно видела в возможно большем расширении пределов русского государства. От природы она была умна и хитра. Нелегко доставшийся престол научил ее многому. Она прекрасно разбиралась в интригах европейской дипломатии. Хитрость и гибкость были основой того, что в Европе, смотря по обстоятельствам, называлось политикой Северной Семирамиды или преступлениями московской Мессалины.
Но, несмотря на огромный промежуток времени, отделявший старую государыню от немецкого периода ее жизни, несмотря на то, что в течение тридцати с лишним лет она была самодержавной царицей России, цербстское прошлое в значительной мере определяло мысли и чувства Екатерины. Какие успехи ни выпадали на ее долю, как ни привыкла она ко всеобщей, безмерной лести, императрица все еще не могла совершенно оправиться, в глубине души, от того небывалого, случайного и сказочного счастья, которое выпало ей на долю. Екатерина прекрасно знала, что ни по каким законам не имеет ни малейших прав на императорский престол России. Тот, кто мог себя считать законным русским монархом, несчастный Иоанн Антонович, с двухлетнего возраста заключенный в тюрьму, был убит при попытке к побегу, а поручика Мировича, устроившего эту попытку, казнили с соизволения Екатерины. Следующий за Иоанном Антоновичем император Петр Федорович был низвергнут Екатериной и задушен в Ропшинском замке. После же смерти обоих императоров, Иоанна и Петра, законным наследником был сын Екатерины, великий князь Павел Петрович. Он был устранен ею, вопреки смыслу и духу закона. Русский престол она, цербстская немка, занимала только благодаря захвату, осуществленному тридцать лет тому назад кучкой шальных гвардейских офицеров. Иногда Екатерина во сне с ужасом видела, как ее внезапно лишают трона и душат, либо заключают в монастырь, либо отправляют на родину, туда в Цербст.
Она хорошо понимала, что может держаться на престоле, лишь всячески угождая дворянству и офицерам, — с тем, чтобы предотвратить или хоть уменьшить опасность нового дворцового заговора. Это Екатерина и делала. Вся ее внутренняя политика сводилась к тому, чтобы жизнь офицеров при ее дворе и в гвардейских частях была возможно более выгодной и приятной.
Екатерина по природе своей не была ни зла, ни жестока. Напротив, она была даже скорее добра и охотно благодетельствовала людям, если ей это ничего не стоило или стоило не очень дорого. Честолюбие ее, вполне женское, то есть совершенно отличное от мужского, сильно уменьшалось с годами. Екатерина не была и чрезмерно властолюбива: всю жизнь неизменно находилась под влиянием сменяющих друг друга фаворитов, которым с радостью уступала свою власть, вмешиваясь в их распоряжения страной только тогда, когда уж очень ясно они показывали свою неопытность, неспособность или глупость: она была умнее и опытнее в делах, чем все ее любовники, за исключением князя Потемкина.
В натуре Екатерины не было ничего чрезмерного, кроме странной смеси самой грубой и все усиливающейся с годами чувственности с чисто немецкой, практической сентиментальностью. В свои шестьдесят пять лет она как девочка влюблялась в двадцатилетних офицеров и искренне верила тому, что они также в нее влюблены. На седьмом десятке лет она плакала горькими слезами, когда ей казалось, будто Платон Зубов был с ней сдержаннее, чем обыкновенно.