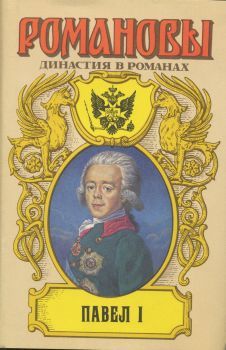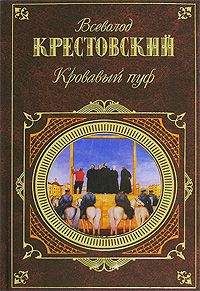Таким образом прошло всё детство и отрочество этой девочки, выросшей без матери, среди привольной жизни забытого сельского уголка, и — «графинюшка Лизутка» незаметно стала взрослой девицей. Это была совсем русская красавица: сильная, здоровая, ловкая и хорошо сложённая, с плавными и грациозными движениями, с лучистым взглядом больших и открытых серых глаз, с «соболиною» бровью и длинными ресницами, с несколько капризно-вздёрнутым носиком, густыми светло-каштановыми косами и, наконец, с обворожительной улыбкой свежих, румяных губ, и эта улыбка имела у неё свойство, словно солнце, озарять всё лицо, всё существо её, когда ей было весело или когда она хотела быть приветливой.
Со вступлением графини Елизаветы в семнадцатилетний возраст учителя её были отпущены с хорошими наградами, а три «мадамы» остались при ней по-прежнему — «для практики и для компании», но старая нянька Федосеевна и в новом положении своей воспитанницы, «по законному своему праву», всё-таки не покидала первенствующей роли, и графиня Елизавета, как и в оны дни, продолжала быть для неё всё тою же «графинюшкой Лизуткой».
Ноябрьский сиверкий день начинал сереть. Стая ворон и галок шумливо кружилась над обнажёнными деревьями любимковских рощ, наглядывая себе в прутьях ветвей удобные места для ночлега. Граф Илия, проснувшись от послеобеденного сна, вышел по обыкновению в своём тёмно-синем бархатном халате на беличьем меху посидеть в гостиную, куда в эту пору дворецкий Аникеич, тоже по обыкновению, принёс ему с погреба большую хрустальную кружку фруктового кваса. Граф любил посидеть в этой комнате именно в тот час, когда уже начинают спускаться сумерки, и, погружаясь в глубокое, спокойное кресло да прихлёбывая из кружки ароматный квасок, послушать пение своей Лизы с аккомпанементом арфы или её игру на клавесине. Графиня Лиза сидела у окна, усердно склонившись над пяльцами; она вышивала шелками роскошный букет для диванной подушки, которую намеревалась поднести в «презент» своему отцу в день его рождения, и теперь торопилась, пока ещё не стемнело, окончить большую пунцовую розу.
— Полно-ка глазыньки томить! — заглядывая из-за плеча дочери на вышиванье и мягко проводя рукой по её волосам, заметил граф, — успеешь ещё, родная…
— Ах, пожалуй, не мешай, папушка! — тряхнув головкой, с оттенком лёгкого нетерпения, озабоченно проговорила Лиза, — ещё шестнадцать городков остаётся, и тогда конец.
— Да глаза же слепишь, говорю тебе.
— Пустое! Молодые ещё, не ослепнут… Ведь для тебя же стараюсь…
— Для меня… Ах ты, рукодельница моя прилежная! — ласково усмехнулся граф. — Для меня… А чем же я для тебя постараюсь? В Москву свозить нешто?
— Не охотница я, мне и здесь хорошо пока.
Аникеич вошёл с полной кружкой на серебряном подносе.
— Ага, и ты, старый хрен, пожаловать изволил! — с доброй усмешкой моргнул на него граф.
— Сами недалече от меня отстали… Хрен да хрен! Какой я вам хрен ещё! — как бы взаправду сердясь, проворчал старый дворецкий. — Кушайте-ка лучше, пока пенится… Вашего сиятельства на доброе здравие! — прибавил он с поклоном, когда граф взял и поднёс к губам своим кружку.
— Ну, однако же, будет! Довольно! — ласковым, но решительным тоном обратился этот последний к дочери.
— В сей час, папушка, в сей час. Уж только семь городков осталось… Вот только этот бутон… один лепесточек, и на сей день урок мой окончен.
— Да смеркается же! Будет… Пожалуй-ка, лучше сыграй мне, а я послушаю… Только нечто бы маэстозное[14], — я в такой настройке ныне.
— Ты говоришь, настройка… маэстозная… — раздумчиво и как-то оттягивая слова, после некоторого молчания заговорила Лиза. — А знаешь ли, папушка, и я ведь тоже в совсем особливой ныне настройке.
— Ой ли, детка! Что такое?
— Да так, и сама не знаю. Всё раздумье берёт… беспричинное… будто симпатия какая.
— Да с чего же, однако, быть той симпатии?
— Сон такой привиделся.
— Со-он? Эка выдумщица!..
— Право же, сон, папушка… И вообрази, дважды кряду в эту ночь всё он один снился… Поутру я даже в «Мартын Задеке» справлялась[15].
— Что же за знатный сон такой? Ну-ка?
— Да вот, изволишь видеть, снится мне это, будто мы с тобой вдвоём идём на высокую гору, и будто эта гора — наша Любимка. «Поди ты, что за странность, думаю. Стать ли этой нашей Любимке быть вдруг горою!.. Да ещё такою высокою, такою трудною!» И мы с тобой всё на неё взбираемся, всё карабкаемся, а из-под ног у нас всё камешки сыплются, и мы скользим, падаем и снова поднимаемся, а окрест нас такая пустыня, такая темень, мрак, хоть глаз выколи! И плачусь я, что никогда мы не дойдём до вершины и никогда нашему бедству скончания не будет… И только что я эдак-то сама в себе возроптала, гляжу — ан мы с тобой вдруг уже на самой вершине, и тут вдруг озарил нас свет… И такой это был блеск неожиданный и прекрасный, что я даже испугалась и зажмурилась. И в сей же час мы с тобой, взявшись за руки, побежали с этой вершины вниз, и так, знаешь ли, шибко, так легко несёмся, будто летим, что даже дух у меня замирает. Смотрю, а уж мы среди прекрасной и цветущей долины плывём в лодке по широкой реке, и тут я проснулась.
— Плотно, матушка, значит, покушала за ужином, — смеясь, заметил граф на рассказ своей дочери.
— Ну, вот!.. Совсем почти нисколько не ела, одну только чашку молока выпила! — возразила девушка. — И что достопримечательно: чуть лишь заснула — опять всё тот же сон… Я себе и возьми это за приметку, заглянула в «Мартын Задеку», а там знаешь, что про то писано? Писано, что на гору взбираться — означает труд, испытание и долготерпение в горести, а с горы катиться — вот что от слова до слова сказано, — я даже в самой точности запомнила: «сон сей, человече, нарочито знатную перемену в жизни твоей означает». А что до реки касается, то спокойно плыть по оной — прибыток, довольство и счастливую жизнь знаменует.
Граф на это только тихо и несколько грустно улыбнулся своей дочери.
— Всё это прекрасно, — заметил он, — а вижу я, однако, что ты, неслух эдакой, всё ещё корпишь над своей работой!
— Последний городок, папушка! ей-Богу, последний!
И настойчивая Лиза не ранее-таки встала из-за пялец, как дошив до конца весь лепесток розового бутона.
— Ну вот, теперь я права! — весело поднявшись со стула и накрывая камчатной салфеткой свою работу, сказала она с полным, облегчающим вздохом. — Что же сыграть тебе, папушка?
— Что знаешь, дружочек… Из Метастазия нечто или из Моцарта.
Девушка присела слегка за клавесин, взяла несколько аккордов и задумалась — что бы такое сыграть ей в угоду отцу. Взгляд её вдумчиво устремился куда-то, как бы в пространство, и бессознательно перешёл на стёкла окна, из которого видна была часть «переднего двора», частокол и посреди него высокие дубовые ворота, крытые русским навесом с гребешком и коньками, а там, за этими воротами, — выгон, скучно покрытый снежной пеленой, и сереющая роща со своими крикливыми галками, и под рощей той большой и густой конопляник, где ещё ребёнком так хорошо и привольно бывало ей прятаться в жаркий полдень, среди чащи сильно пахучих высоких стеблей, от докучного дозора подслеповатой и строгой «мадамы-англичанки».
— Папушка! Глянь-ко, что это такое?.. Никак, едет кто-то, — вскричала вдруг Лиза, вскакивая с табурета и кидаясь к окошку.
— Полно! Кого понесёт сюда в такую пору! — махнул граф рукою.
— Нет, папушка, и впрямь едет… Слышишь, колокольчик почтовый…
Граф прислушался из своего кресла и действительно очень ясно различил приближавшийся звон заливистого колокольчика.
— Сдаётся так, что военный будто… в шляпе, в треугольной. Право же, папушка! — глядя в окно, уверяла Лиза.
Граф ничего не ответил, и только слегка поморщился, невольно выказав этой миной признак внутренней досады и неудовольствия. В течение долгих лет своей опалы он из опыта уже убедился, что редкие приезды незнакомых лиц в военной форме, с почтовым колокольчиком под дугой знаменуют всегда нечто официальное, а всё официальное не могло доселе сулить опальному графу ничего, кроме какой-нибудь новой неприятности, нового стеснения.
Колокольчик замолк перед самым частоколом на ту минуту, пока прибежавший с дворовыми собаками казачок отворял решётчатые ворота, и вслед за тем, облетев полукругом двор, курьерская тройка остановилась у небольшого крыльца барского домика.
— Аникеич, узнай-ка, брат, кто там и за коей надобностью, — приказал граф дворецкому, позвав его обычным хлопаньем в ладоши, что служило у него сигналом призыва для домашней прислуги. — Да если это какой-нибудь новый пристав, — прибавил Харитонов-Трофимьев, — так ты, братец, внуши-ка ему, что это вовсе непорядок лезть со своими колоколами прямо под графское крыльцо, что для сего-де есть у графа сборная изба либо контора… Ну, и там выдай ему, что следывает по положению, и отправь поскорее.