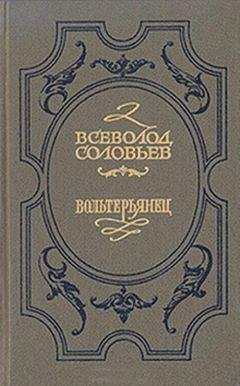Это была обширная комната, которой трудно было дать определенно наименование. Ее бы следовало назвать спальней, но можно было назвать и уборной, и кабинетом, и приемной, и всем, чем угодно. Самая разнообразная мебель и мало подходящие друг к другу предметы наполняли ее. В глубине, под дорогим штофным балдахином, виднелась золоченая кровать, неподалеку от нее стоял туалетный стол с большим венецианским зеркалом, уставленный всякими скляночками и баночками, гребешками и щетками, одним словом, вещами, необходимыми скорее для женского, чем для мужского туалета. По стенам висело несколько больших и малых картин с самыми разнообразными сюжетами; и между ними, на самых видных местах, превосходные портреты императрицы Екатерины. На всех этих портретах она была похожа и в то же время необыкновенно красива и моложава.
Ближе к окнам стоял письменный стол, заваленный бумагами; возле него этажерка с книгами. На другом столе лежали, очевидно, небрежно брошенные орденские звезды и другие знаки отличия. На нескольких стульях виднелись различные принадлежности мужского костюма. Рядом с ночным столиком, приставленным к кровати, был придвинут еще другой, тяжелый, вычурный столик мозаичной работы, и на нем стояла перламутровая открытая шкатулка.
Шкатулка вся была полна драгоценными украшениями, по преимуществу табакерками и перстнями. И все это сверкало огромными бриллиантами чистейшей воды, превосходными рубинами, изумрудами и яхонтами.
Но несмотря на роскошные, драгоценные вещи, разбросанные повсюду, несмотря на золото, шелк и бархат, эта комната поражала своим беспорядком, своей неряшливостью.
У ног кровати, на табуретке, прикрытой пушистым одеялом, спала, свернувшись, маленькая обезьяна. Она иногда вздрагивала, приподнимала свою безобразную и смешную мордочку, мигала большими черными глазами, нюхала воздух, зевала во весь огромный рот и чесала за ухом с ужимками и манерами уже проснувшегося, но желающего еще полениться и понежиться человека. Почесавшись, поморгав и позевав, обезьянка повертывала мордочку по направлению к кровати, заглядывала под занавеску балдахина, прислушивалась и затем опять свертывалась в клубочек и засыпала.
Все было тихо в комнате. Только из-за запертой двери доносился едва слышный шепот, прерывавшийся иногда таким же тихим возгласом:
«Ш-ш!»
Но вот под балдахином кто-то зевнул раз, другой. Небольшая мужская рука, с длинными розовыми ногтями, сдернула занавес, на пышных подушках обрисовался тонкий профиль молодого красивого лица.
Обезьянка проснулась, прислушалась, взвизгнула и в один прыжок очутилась на кровати.
— Пошла! Пошла! — крикнул еще несколько охрипшим спросонья голосом молодой человек, отстраняя от себя обрадованное и назойливое животное.
Обезьянка стала лизать ему руку; но тут же была схвачена за шиворот и, смешно перекувырнувшись в воздухе, полетела на ковер.
Она поджала хвост, подползла под кровать и ежеминутно выглядывала оттуда, гримасничая самым уморительным образом.
Молодой человек потянулся, еще раз зевнул и спустил ноги с кровати. Теперь можно было хорошо рассмотреть всю его фигуру.
Он далеко уже не был юношей. Ему казалось на вид лет тридцать, а может, и больше; невысокого роста, сухощавый, с нежным, почти женским сложением, он казался бессильным и хрупким, он был бледен — матовой, несколько желтоватой бледностью. На его лице с правильными и тонкими чертами, с большими темными глазами, еще не успели показаться морщины, кожа была нежная и тонкая. Но это бесспорно замечательно красивое лицо поражало только в первую минуту, а затем уже представлялось совсем незначительным — ничтожным. Он уже пережил тот возраст, когда его можно было принять за краснеющую девушку и когда это сходство говорило в его пользу. Теперь он был зрелым мужчиной, а между тем ничего твердого, мужского не было заметно в нежном, несколько выцветшем и увядшем лице его.
Он потянулся к колокольчику и позвонил.
В то же самое мгновение маленькая дверца за кроватью отворилась, появилась, неслышно ступая по паркету, фигура благообразного, вымуштрованного камердинера. Камердинер поставил на столик поднос с маленьким серебряным умывальником и полотенцем. Потом ловко обул молодого человека, подал ему легкий восточный халат и так же неслышно удалился.
Молодой человек, засучив рукава, вылил содержимое умывальника в маленькую лоханку — это были густые сливки. Он несколько раз окунул в них лицо, крепко зажмуривая глаза. Затем в них же вымыл руки и осторожно утерся полотенцем. Затем, пока оставшиеся жирные и влажные частицы высыхали на лице, он опять прилег на кровать, свистнул обезьянку и, играя с нею, забавляясь ее гримасами и легкими прыжками, погрузился в тихое раздумье. Минуты проходили за минутами. Вокруг было все также тихо, только по-прежнему за затворенной дверью едва слышно раздавался не то шорох, не то шепот.
Мысли молодого человека перелетали от одного предмета на другой. Но, собственно говоря, о чем бы он ни думал — он думал только о себе самом. Однако вот он остановился, очевидно, на чем-то очень для него важном, даже брови у него сдвинулись, даже глаза блеснули как-то особенно.
Он опять схватил за шиворот обезьянку и отшвырнул ее.
«Гений, гений! государственный ум, великие люди! — думал он. — Вон Потемкина в великие люди записали, а чем же я хуже его?.. Я был неопытен, я был почти ребенок, а все же сумел с ним справиться, осилил его. Великий человек! Он думал удивить весь мир своим греческим проектом, и что же вышло из его мечтаний, из его проекта? Ничего, все разлетелось, как дым, потому что все это был вздор. Нет, я докажу им, что я поумнее и подальновиднее Потемкина. Мне надоело наконец все это, зачем мне им глаза колют! Сколько раз она мне повторяла: „второго Потемкина не будет“… Я докажу ей, я докажу всему миру. Разве мои мысли неосуществимы?.. Ведь вон даже этот дерзкий сумасброд, этот кривляка Суворов ничего не мог мне возразить! Да, не пройдет и года, все будет сделано. Брат Валериан займет все важные торговые пункты от Персии до Тибета, оставит там наши гарнизоны, установит таким образом прямое сообщение России с Индией. Потом направится с русской армией к Анатолии, возьмет Анапу и сразу пресечет все сношения с Константинополем. Между тем Суворов в то же время двинется к Константинополю через Балканы и Андриаполь. Я же с императрицей, находясь лично на флоте, осадим Константинополь с моря… На долю брата Валериана выпадет большая слава, опять он будет считать себя героем и опять получит знатные награды. Какой же он герой? С детства был трусишкой и ногу-то потерял единственно по глупости, а уж никак не по геройству. А ведь думает-то о себе сколько! Я уверен, что он себя умнее меня почитает — избаловали, осыпали милостями, надавали всяких отличий и даже меня не спрашивались. Не стоит он совсем этого, ну, да уж Бог с ним, все равно нужно будет сунуть его в это дело, все лучше, чем кому-нибудь другому. Чего бы он теперь ни наделал и как бы его ни хвалили — все равно уж не может быть для меня опасен. Суворов!.. Но без Суворова никак обойтись невозможно. Да он теперь одумался, слушается, молчит, понял, наконец, глупый старик, что не со мною ему тягаться. Что же они мне возразить могут, ведь все это так исполнимо, и все это непременно будет. Конечно, дорого обойдется — пускай высчитывают. Да, мало, откуда взять? Нашли, чем пугать. Я им прямо сказал ведь, что есть предприятия, для которых не может быть недостачи в деньгах, нужно добыть — и добудут. Налоги — отягощение народа! Да мне-то какое дело? Раз, что такая гениальная мысль пришла в голову — необходимо тотчас же осуществить ее во что бы то ни стало. Эта идея, которая, конечно, будет исполнена, навеки меня прославит, обессмертит. Какую оду в честь мою напишет этот подлипала Державин!.. Как это он теперь сказал про меня:
Кто сей любитель согласья?
Скрытый зиждитель ли счастья?
Скромный смиритель ли злых?
Дней гражданин золотых,
Истый любимец Астреи!
Как же теперь-то он назовет меня? В божеское возведет достоинство, наречет громовержцем Зевесом. Вся Европа ахнет, вся как есть! Все свои скверные языки прикусят, пусть лопаются с досады и зависти, пусть все видят, что меня поднял не случай, а мои таланты и… и уж она не решится говорить мне, что второго Потемкина не будет!»
И вдруг он вспомнил что-то такое, что вдруг заставило его вскочить с кровати и даже нервно пройтись по комнате. Он усмехнулся злой и самодовольной улыбкой и прошептал:
— Я докажу ему, что он червяк передо мною и что мне стоит только так вот приподнять ногу, а потом опустить, и от него ничего не останется!…
Кто же так мог взволновать этого человека, находящегося на верху земных почестей и, как он полагал, на верху земной славы? О ком мог вспомнить этот государственный муж, только что помышлявший о своем грандиозном и гениальном, как он был твердо уверен, проекте? Был ли это политический враг, какая-нибудь владетельная особа, какой-нибудь знаменитый министр иностранной державы, с которым ему приходилось бороться?