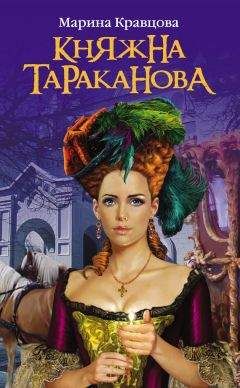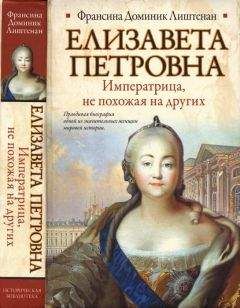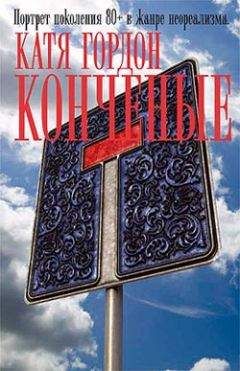– Давай костер разведем, – предложил Орлов. – Алешка-то наш храпит, стены трясутся. Ты-то, весь день с нами по лесу протаскавшись, не устал ли? Понял я, ты охоту не жалуешь?
– Не слишком-то, Григорий Григорьевич.
– Да? А чего любишь?
– Не знаю. Лошадей люблю.
– Это ты как наш Алешенька, – улыбнулся Григорий. – Ему они тоже в страсть. А чего еще?
Большой костер трещал, задорно разбрасывая искры. Ярко-рыжее пламя бросало отблеск на молодые лица.
– А вот… ночь такую люблю, – мечтательно проговорил Ошеров, протягивая руки к костру. – Чтоб звезд поболее! И месяц тоненький, да яркий. Мне всегда такая ж ночь в Малороссии на память приходит. Там я, недоросль беззаботный, был счастлив когда-то.
– А сейчас ты счастлив?
– Не знаю.
– Ничего-то ты не знаешь! Я вот тоже ничего не знаю. Ничегошеньки! На людях-то… когда хвалить начнут меня приятели, так и возгордишься порой, и почувствуешь себя чем-то. А потом в поле выйдешь… Или в лес, как сегодня… Боже, Творче и Создателю! Что за мир Ты создал, какую красоту! И я-то, песчинка ничтожная, червь, перед Твоим неизреченным светом. А когда ночью у костра сидишь… Сам послушай: деревья шепчутся чуть слышно, пташка прокричала – ей тоже не спится, как нам с тобой… Ах, Сереженька! Такое найдет – жизни мало, воздуху мало, надышаться не могу! Кажется, отпустите меня на все четыре стороны – весь мир пешком обойду. И такая силища пробуждается – горы сверну, реки выпью! Вот так упадешь в траву, руки раскинешь, лежишь и слушаешь, как цветы да травинки растут. И на сердце тихо-тихо вдруг становится, мирно-мирно, словно в храме Божьем побывал.
Ошеров изумленно глянул на Григория. «Так вот ты какой!» – говорил этот взгляд. Но Орлов не заметил.
– А после вернешься к товарищам своим, – продолжал он, – и пошло-поехало. Вино, драчки, грации… Ну, как привык, так и живешь. А ты, братишка, не привыкай. Я это тебе как старший говорю, уж поболее твоего в жизни повидал. Не нужно.
Они помолчали. Потрескивал костер в тишине, искры взвивались и затухали.
– Глянь-ка, звезда упала! – негромко воскликнул Григорий. – Да! Вот и я так когда-нибудь сорвусь и полечу. Вниз, вниз…
– Что это вы, Григорий Григорьевич? Не надо так говорить!
– А как же? Высоко взлетел… да в любую минуту крылья могут орлу подрезать. Нет, сейчас я, конечно, падать не желаю. Молодость свою чувствую и силу! Риск велик, а страха нет… Поживем еще, даст Бог, порадуемся. Жизнь-то хороша, братец мой!
– Верно, хороша!
– А ты на Украине что делал? Сам вроде с Урала, мне Алехан сказывал?
– Да. У меня тетка живет под Черниговом, замужем она за шляхтичем.
– Наверное, там счастливее люди живут, чем у нас, – задумчиво проговорил Орлов. – Но и в Петербурге можно счастливым стать. Мыто сами, Орловы, новгородские. Господин Великий Новгород вольнолюбивый… Не бывал? Отец наш, Царствие ему Небесное, в нем губернаторствовал. Славный город. Серебряный весь, храмы белые, строгие, величавые, главы – словно в инее. София великая… Красота святая! А вот привела дорога в Петербург… и куда завела-то, Господи! Не знаешь своей судьбы, и не сам ты себе судьбу выбираешь. Идешь по дороге, не ведая, куда приведет, а дорогу волей своей в другую сторону не повернешь. Я, друг мой, сам не знаю, чего я хочу. Жить хочу – это так, до жадности, всем сердцем и брюхом, а зачем жить, чего желать, не ведаю…
Он вздохнул.
– Помолись за меня, грешного.
– Не умею я молиться, – прошептал Сергей.
– А это плохо. Настанет непременно в жизни миг, когда и захочешь взмолиться – да вдруг не сумеешь? Так что учись. Я-то, по правде, – усмехнулся невесело, – сам сию науку недостаточно ведаю. Вот у Потемкина, тезки моего, вера жаркая, крепкая! А я-то… Но придет час, припечет, поневоле к Богу возопишь. Как я тогда под Цорндорфом. Жутко – дым, ор, кровь… Ранило меня, потом еще, да еще. Боль такая, что помереть лучше! Ничего, выстоял с Божьей помощью. Так что, молиться – наука хорошая. Не слушай умников-то нынешних, – и вдруг рассмеялся: – Ох ты, матушки! Это я-то, Гришка Орлов, учу тебя благочестию!
– Не надо, не говорите так! – воскликнул Сережа.
– Верно, не будем об этом. Ночь-то какая! И чего Алехан дрыхнет? Разве можно спать в такую ночь? Чудеса ведь Божии. Ничего-то мы, люди, не ведаем…
Сережа ничего не ответил. Орлов смотрел на огонь, но видел уже иное: воспоминание о родном городе вызвало в памяти полузабытую картинку из детства.
Зима… Солнечный блеск… Широкий двор. Четверо мальчишек – крепких, красивых, румяных – возятся в снегу, катаются с высокой ледяной горки, пуляют друг в друга белыми комьями… Было бы их здесь и пятеро, кабы крошка Володенька умел уже на ноженьки вставать. А пока лежит младший отпрыск Григория Ивановича Орлова в колыбельке, сладко сопит во сне, не ведая, какая драма разворачивается во дворе.
Шустрый трехлетний Федя, двигаться желая и безобразить, ни с того ни с сего начал задираться, щипать и толкать брата Алешку. Терпел-терпел Алешка, но не выдержал – набил младшего по заду. Федя, не ожидавший отпора, рот в изумлении раскрыл и после краткого раздумья дал ревака. Тут вмешался первенец четы Орловых, Иванушка, чьей привилегией было следить за порядком. Толком не разобравшись, рьяно вступился за Федю. А Алешка и так уже был рассержен. Завязалась драка. Увидел это с высоты ледяной горки десятилетний Гриша, бесстрашно и красиво съехал вниз на ногах и прямо с лету, разгоряченный, ввязался в потасовку, одно лишь поняв: обижают лучшего друга – брата Алешку…
А после стояли братцы, выстроенные батюшкой, опустив головы, – отца все четверо страшились. Впрочем, здесь их сейчас было только трое. Григорий Иванович гневался:
– Куда Гришка запропастился, главный непоседа?
Но даже в сердитом ворчанье пробивались ласковые нотки: ближе всех был второй сын отцовскому сердцу. Да и всеобщим любимцем был он, Гриша, прехорошенький мальчик, самый добрый из братьев, самый доверчивый и ласковый. Горяч, вот, правда – честный бой страсть как любит.
Наконец вбежал круглолицый ясноглазый мальчишка. Густые темные волосы выбились из прически, закрывая лоб смешной челкой. И прямо – к отцу.
– Батюшка, звали? – и рот до ушей.
Потянулась было отцовская рука приласкать Гришу, да замерла на полпути.
– Ну-ка, становись, – с притворной суровостью приказал Орлов.
Гриша послушно занял свое место в ряду братьев, рядом с Алешкой. Тот украдкой ему руку пожал: держись, мол. А отец меж тем внушал:
– Стыдно мне, орлята мои, за ваше бесчинство! Или вы не мои сыновья? Или не вас я учил – послушание старшим да братская любовь да будут для вас превыше всего. И ты, Феденька, не вертись, прямо стой, хоть и мал, а слушай да вникай… Пятеро вас – опорой должны стать друг другу. А ну как умру? Что? Передеретесь без меня за наследство?
– Батюшка! – выкрикнул взволновавшийся Гриша. – Вы никогда не умрете, никогда!
А у Алешки рот закривился. Феденька испуганно смотрел на братьев, вновь готовый разреветься, и лишь Иванушка внимал отцу со строгим и внимательным выражением лица, как старшему и подобает.
Посек-таки Григорий Иванович сыновей…
Года два прошло – не стало отца. Но его завет помнили «орлята» – всегда горой стояли друг за друга, младшие старших слушались, а старшие о младших заботились…
Детство вернулось на миг, воспоминания о нем все затмили: годы учебы в сухопутном шляхетском корпусе, жизнь гвардейскую, войну и Цорндорф, что сделал из Григория Орлова героя. Все забылось… кроме одного.
– Десять лет… – сказал он неожиданно.
– Вы о чем? – не понял Ошеров.
– Так… детство вспомнилось. Десять лет мне было тогда… а ей – пятнадцать. И кто знает… Может быть, как раз в тот миг, когда я Ваньку мутузил, она и въезжала в Россию. Сама мне рассказывала – зима была, снегу намело.
– Екатерина…
Это имя, вполголоса произнесенное Сергеем, искрой сверкнуло и исчезло, оставив после себя многозначительную тишину. Нарушил молчание Орлов.
– Алехан как узнал, в кого я влюблен, аж взъерепенился! – Григорий заметно повеселел и улыбнулся. – Думал даже, что побьет, хотя и младший брат.
– Понимаю его. Ведь она же… высота-то какая! Ох, Григорий Григорьевич, а ну как… головы лишитесь?
– За нее – не страшусь, – твердо отвечал Орлов. – Да и жизнь на что, если смерти боишься? Все одно ведь придет, раньше ли, позже… Не позволю голштинскому выродку над ней измываться! Этот дурачок и мизинца ее не стоит. Посмотрим, чья возьмет.
– Лишь бы крови не допустить, – повторил Сережа слова Потемкина.
– Конечно, только так. Да дело и без крови легко выгорит. Уже никому невмочь его терпеть. Готовься, дружище. Чувствую – скоро уже…* * *
Гвардейцы-заговорщики, называя Петра Третьего «выродком» и «дурачком», были к молодому государю несправедливы. Странная судьба выпала на его долю.
Матери юный герцог не помнил, отец его тоже рано скончался. И виноват ли был высокородный сирота в том, что воспитатели его озаботились разрешением одного лишь вопроса: шведским или российским государем станет герцог голштинский, волею причудливой судьбы, а вернее, по вине династических хитросплетений – внук непримиримых при жизни врагов, шведского короля Карла Двенадцатого и российского императора Петра Первого. Воспитание мальчик получил уродливое, жестокий наставник избивал его и морил голодом, все хорошие задатки были погублены на корню. А пресловутый вопрос разрешила русская царица Елизавета, пожелавшая видеть наследником российского престола родного племянника. Петр, России не знавший и не любивший, а потому и не понимавший – да что ж ему с этой махиной делать? – был достоин немалого сострадания. Но сострадания не знает политика, а именно политикой занимались составлявшие заговор гвардейцы. Не желали они лить слезы по поводу исковерканной судьбы бедного Петра, раз чуждость его и даже враждебность к непонятной стране, которой довелось управлять, грозили этой стране будущими бедствиями…