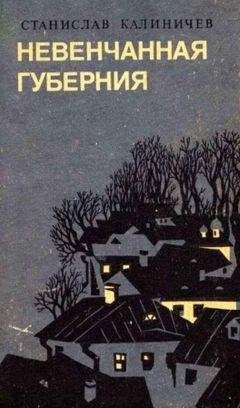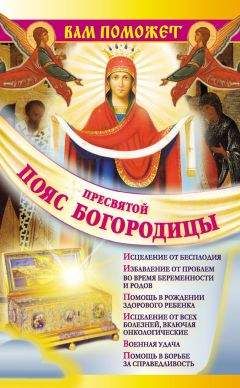А сколько иных чрезвычайных событий повидал он!.. Тем радостней было после многолетней разлуки встретить живого свидетеля своей юности, своей милой розовой глупости. Эраст познакомил его с женой и детьми, а после ужина проводил в отведённую для гостя комнату и предупредил, что завтра с утра поведёт знакомиться с хозяйством. При встрече лет десять назад друзья взялись бы за руки сразу, как только Василий Николаевич сошёл с линейки (отличного, между прочим, возка на мягких рессорах, который посылали за гостем на станцию), да и говорили бы и говорили до самой ночи, а то и до другого дня.
Но нынче что-то не вышло… Эраст Карпович вспомнил былые мечты о справедливости, скромно, однако не без гордости заметил, что его лично, не в пример другим, крестьяне уважают. Едва не увлёкся, но вовремя прочитал в глазах гостя недоумение, если не сказать больше — насмешку. Задушевный разговор не складывался. Абызов это почувствовал, стал оправдываться: по делам компании, в которой служил, побывал в Петербурге, Москве, очень устал… Вот надумал немного развеяться, ощутить «деревенскую дрёму». Эраст Карпович тут же заинтересовался, что нового в столице, какие веяния?
— Пустое всё, — вяло махнул рукой Абызов, — думские пустобрёхи… Эти слова даже покоробили Эраста Карповича. Он преклонялся перед лидером октябристов Александром Ивановичем Гучковым, выписывал газету «Голос Москвы», а царский Манифест от 17 октября считал главным завоеванием революции девятьсот пятого года. Да разве мог приятель столь пренебрежительно отзываться о Государственной Думе! Ведь… что уж прибедняться, в молодости и они, студенты Логин и Абызов, рисковали, даже могли пострадать ради этого поворота государственного курса России.
В общем, пренебрежительные слова Абызова о Думе расстроили хозяина, и опять в дружеском разговоре произошла заминка. Поэтому предложение Эраста Карповича отдохнуть с дороги, отложить разговоры на завтра Абызов охотно принял. Бывшие друзья получали отсрочку, чтобы осмыслить своё новое положение, чтобы понять, как далеко развели их годы и события.
На следующее утро хозяин, надев роскошный домашний халат, который уютно облегал его полнеющее брюшко, зашёл в комнату гостя. Хотел разбудить, напомнить, что жизнь в деревне начинается с восходом солнца, что культурному хозяину надо немало трудиться… Однако то, что увидел, вновь его озадачило. Окно в комнате, не смотря на довольно прохладное майское утро, было растворено настежь. Василий Николаевич стоял, выгнувшись мостом — живот вверх, голова запрокинута, руки почти касаются пола. Когда Логин вошёл, он резко выпрямился, лицо от напряжения и прилившей крови побагровело. На госте были только трусы да на ногах нечто в виде коротких кожаных носков. Волосатая грудь мощно вздымалась при каждом вдохе, яблоками перекатывались под кожей крепкие мышцы. А если принять во внимание, что Абызов был на голову выше хозяина — его атлетический вид производил сильное впечатление.
— Василий Николаевич, ты это… как понимать?
— А так и понимать. Упражняюсь. Делаю гимнастику.
— За какие же грехи так истязаешь себя? Ведь не в цирке, поди, работаешь! — рассмеялся хозяин.
— Нынче, дорогой Эраст, вся Россия — один большой цирк. И главный клоун есть — в золотом колпаке с брильянтами.
— Ну, ну… Уж не эсер ли ты, Василий Николаевич?
— Нет, дорогой Эраст, с бомбистами и горлопанами я не имею ничего общего, — серьёзно ответил Абызов.
Он расхаживал по комнате, приседал, выбрасывал руки в стороны. Потом намочил полотенце, поливая его из кувшина, отжал над тазом и стал растираться.
— Я понял, друг мой, — продолжал он, одеваясь, — мы с тобой не готовы принять то новое, что появилось в каждом за прошедшие годы. Тебе на правах гостеприимного хозяина об этом говорить неудобно. Так скажу я. Мы сторонники разных партий. Но это не важно, чепуха всё это. Когда на тебя попрёт мужик с вилами или товарищ с бомбами — мы будем по одну сторону баррикады. Вот что важно.
— В какой же ты партии, дорогой Базиль? — всё ещё не понимая оголённого делового тона гостя, с усмешкой спросил Эраст Карпович.
— Формально — в партии народной свободы. Но пойми меня правильно, принадлежность к той или иной политической группе — не скотское тавро, которое на всю жизнь. Просто в России нет сейчас организации более близкой к моим убеждениям, чем кадеты. Господин Милюков за конституцию и парламент. Я тоже. Он за то, чтобы земля оставалась у помещика. Я тоже. Правда, он хочет сохранения трона и царя-батюшки на нём…
— И это тебя не устраивает? — с укором спросил Логин.
— Как сказать… Царь в государстве — вроде иконы в избе. Алтарь у нас большой, но лики-то на нём тёмные, далёкие. А царь, помазанник Божий, — живой, его можно даже в синематографе показывать, как он ручками и ножками двигает. Дремучей мужицкой России для поддержания нравственности нужна живая икона. Но эта икона, по моему убеждению, не должна вмешиваться в дела мирские…
— Любопытно! — оживился Эраст Карпович.
По мере того, как его друг «раскрывался», становился понятнее — пропадала неловкость, что сковывала их. В какой-то миг показалось, что ожили флюиды былой дружбы, пьянящего чувства душевной открытости.
— Любопытно, а как быть с законодательным решением «рабочего вопроса»?
— Понимаешь, всё это, как и «конституция», «парламент» — слова. Ведь важно, что именно будет написано в конституции, кто именно будет заседать в парламенте! Я тоже сторонник закона, и для рабочих — в том числе. По моему закону рабочий должен работать, а не митинговать и безобразничать. Мужик должен пахать и сеять, помещик — быть агрономом, экономистом, коммерсантом.
Абызов горячился, его задевало благодушие хозяина. Эраст Карпович взирал на него из своего халата, как из непробиваемой крепостной башни. Вот и снова, пряча ухмылку, спросил:
— Кто же будет править государством?
— Политики. Профессиональные политики, — ответил Абызов.
— Значит, у кормила державы будет стоять мой друг, то есть ты и иже с тобой! Я могу спать спокойно?
— К чему эта твоя несерьёзность, дорогой Эраст?
— Я вполне серьёзен. А улыбаюсь потому, что рад твоему приезду. Не вступать же с тобой в перепалку по всяким пустякам!
— Нет, я вижу, ты многого не понимаешь.
— Естественно! — Хозяин благодушно улыбался. — И не скрываю… Зачем, к примеру, тебе истязать своё тело? Ещё Сенека говорил, что это пустое занятие: сколько ни старайся упражнять свои мышцы — всё равно у быка их больше и они мощнее твоих.
— Блестяще! Если российский помещик следует советам Сенеки, то, как говорят, дальше ехать некуда.
Друзья сидели в саду, горничная принесла им в беседку холодную ветчину, гренки, кофе со сливками. Смотреть хозяйство они не пошли. Эраст Карпович по-прежнему был в утреннем халате, а Василий Николаевич в спортивных брюках-гольф и лёгкой парусиновой куртке.
— Сенека, — продолжал Абызов, — банкрот от философии. Он был воспитателем у будущего императора Нерона. Так? Ну, и кого же он воспитал? Самого гнусного, самого развратного и кровожадного тирана, который в конце концов не пощадил и своего воспитателя, приказал ему умереть. Даже не сжалился прислать палача: пришлось старику, чтобы исполнить волю своего воспитанника, самому вскрыть себе вены. Так вот, если я, с точки зрения Сенеки, дурак — то, значит, стою на верном пути.
— Ну, полно тебе, Василий Николаевич. Мы привыкли к своей деревенской простоте, нас иногда удивляет городская суета. Не горячись, дружище.
Эраст Карпович хотел сгладить спор, поговорить о погоде, послушать столичные сплетни или поделиться своим рецептом рябиновой настойки. Но Абызова это благодушие раздражало. Ухватившись за слово «суета», он воскликнул:
— Нет, это не мы, активные политики, суетны. Это вы, бирюки деревенские, благодушествуете. К сожалению, не только вы… Господи, сколько же надо бить нас, чтобы научить чему-то. Вот ведь порассуждать любим. Знаем и римскую, и греческую историю, даже верим, что hjstoria est magistra vjtae*… Говорим о спартанском воспитании, о закалке характера, а при этом до вечера не вылезаем из стёганых халатов, начинаем день с рюмочки анисовой. Мы даже историю составляем так, чтобы в ней только приятные факты…
— Ну, дорогой, зачем ты так серьёзно…
— Затем, что в политике, если идея получает развитие, то обязательно кончается кровью. Мы играли идеями свободы, жаждали революции… Но если она грянет — тебе, не кому-нибудь, а тебе лично — придётся брать в руки наган! Если придёт холоп, чтобы забрать твою землю, твой дом — стрелять надо будет тебе самому. Другой холоп за тебя не заступится. Может, потому октябристы хотят оставить всё как есть, лишь бы ничего не менять. В душе я их понимаю. Но трагедия в том, что дальше всё как есть оставаться не может. Вот почему кадеты хотят конституцию такую, чтобы тебе осталась земля, мне — акции, а рабочему — цех, пусть даже большой и светлый. Цех, а не парламент и даже не площадь для митингов. Эсеры тоже за конституцию, но совсем другого порядка. Большевики — те вообще хотят, чтобы ни у кого не было собственности. Все голые и босые и терять им нечего. Сегодня это только теории, сегодня политики высмеивают друг друга, но когда дойдёт до дела — станет не до смеха. Никто своего за так не отдаст. Будут вешать, будут стрелять… В революцию, как известно, чужими руками не воюют. В революцию даже солдат становится тем, кем он был без мундира. И воевать он будет не за твою, а за свою правду. Так что если не захочешь, чтобы к стенке поставили тебя, должен будешь сам кого-то поставить. И сам, даст Бог, из пулемётика…