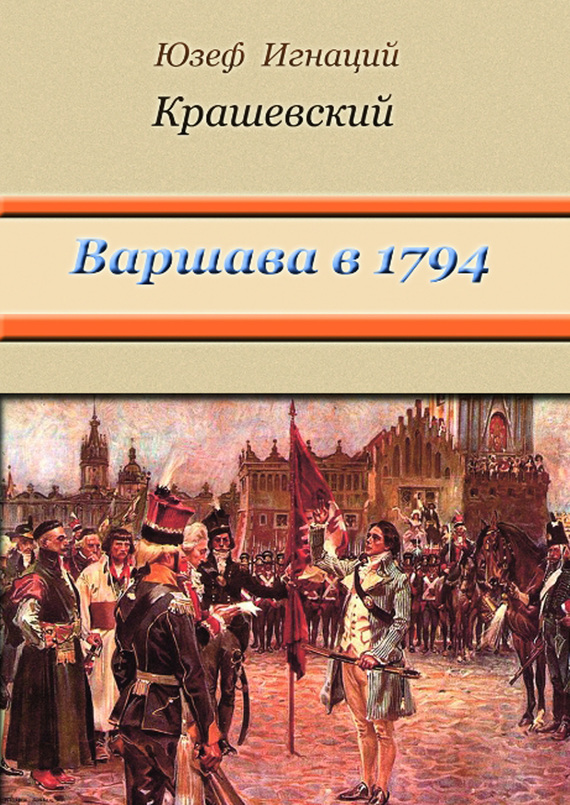потому что отступничество уже невозможно, а душонка спасена.
Рассмеялись все, кроме магистра.
– Жребий войны – неопределённый, – прошептал он.
– Только бы война! Только бы наконец войны дождаться, – крикнул Швелборн, вытягивая руки вверх, – только бы выехать в поле, остальное свершится. Могут они против нас устоять? Что же такое витольдово войско: дикари с дубинками, наполовину нагие, татары и русские, у коих железа не хватает не только на груди, но даже в руках… Лучше вооружёно войско Ягайлы, но и этого мы не боимся… Они не способны.
Лихтенштейн приблизился к великому магистру.
– Я уверен, что никем пренебрегать нельзя, – сказал он тихо. – Нужно послать к чехам и моравам; они хоть говорят подобным с поляками языком, но с немцами живут и братаются. Есть между ними такие, которых можно получить. Пусть они прибудут… Конечно. Дойдёт до боя, пусть встанут в строю, а начнётся хорошая битва, будут знать, что делать.
Все в знак согласия покачали головой.
– Это-то вещь как раз выполнима, – ответил магистр вполголоса. – К Яну Сарновскому, который приведёт наёмный отряд чехов и моравян, послали, и согласие его получили: или против них повернёт, или совсем биться не будет.
Тихим бормотанием все объявили, что это хорошо.
– Против такого неприятеля, как Ягайло, все средства хороши, – молвил магистр, – потому что и он не иные использует. Против язычника также разрешено искать всякие способы, лишь бы от этой мерзости землю очистить, а кто они такие, что смеют бороться против креста, если не язычники?
– Хуже язычников, – вмешался Швелборн, – потому что переодеваются в одежды христиан, чтобы им вредить. Из язычника христианин быть может, из этих людей – никогда ничего хорошего.
Так запальчиво уносясь и выкрикивая, сидели они долго, пока магистр не встал. Время было позднее, поэтому все начали прощаться, и остался один магистр, призывая прислужников, дабы велеть им приготовить ему на ночь постель.
Рядом с комнатой, в которой происходило это шумное совещание, была спальня магистра, вроде кельи монаха, но по-княжески нарядная и излишне обставленная для удобства. Тут, стянув верхнее одеяние, Ульрих хотел уже отправить службу, когда слуга прошептал ему какое-то слово, и магистр накинул плащ, хотя по лицу было видно, что не с радостью это делал.
На пороге первых палат, которые только что опустели, стоял человек в монашеской одежде, с отвратительным лицом, с косым взглядом, потирая руки и заранее покорно склоняя голову.
Способ, каким он приветствовал магистра, позволял угадывать в нём одного из сановников Ордена. Был это, однако, казначей Томе фон Мерхейм, муж, славящийся хитростью, неразговорчивый, скрытный, но имеющий на всех немалое влияние. Не нравился он великому магистру из-за несхожести их характеров: один был рыцарем, другой – змеёй. Но он должен был уступать, испытав плоды его советов.
Мерхейм был лысый, бороду имел редкую, зубы жёлтые и испорченные, кожу лица обезображенную красными пятнами.
Вся его фигура вызывала отвращение.
– Мне нужно сказать вам слово, – прошептал он, приближаясь, – а ваша милость должны меня выслушать, ибо я полагаю, что не без значения и не без пользы это будет.
– Время позднее, – изрёк магистр.
– Другого мы не имеем, – молвил с настойчивостью Мерхейм. – Днём вас люди отвлекает и днём явные следует дела улаживать, а ночью – тайные. Я знаю, что вы предпочитаете за врага браться рыцарским оружием, что в вас отвращение будит, когда к обману нужно прибегать, но мы ничего оставлять не можем. Воспользоваться слабостью врага – в этом весь смысл.
Магистр казался скучающим, сиел, кутаясь в плащ.
– Вы говорите, – сказал он тихо, – Сарновского согласно вашему совету купили. Чего же ещё вы хотите?
– Это ничего ещё, – изрёк, потирая руки, Мерхейм, – малая польза и неопределённая. Даю вам совет лучше. При дворе Ягайла мы имеем наших: его необходимо знать. Идёт он, королеву Анну оставив в Новом Корчине, по-видимому, не с большой охотой, но подталкиваемый своими и видя, что не избежит войны. Подозрительный и ревнивый, склонный к любви и полный суеверий, почему не воспользоваться этим?
– Нам-то что до этого? – спросил магистр неохотно.
– Вы знаете, что эту святую женщину Ядвигу, первую его жену, подозревал ведь! Анна Цылийская некрасива, но ещё молода, почему бы на неё ловко возведённое подозрение упасть не могло?
– Но что же нам до этого? Что нам до этого, повторяю? – отозвался Ульрих.
– Как что? Огнём будет жечь его глупая ревность, – молвил Мерхейм. – Покинет лагерь, войска, войну, и поручит следить за супружеским ложем.
– А как же это подозрение зародится? – спросил Ульрих.
– Нужен тот, кто умеет его возвести, а никто лучше этого не достигнет, чем женщина… Что же вы скажете, если бы она ему колдовство какое сотворила или напиток какой… а мы избавились от врага, лишь бы на славу Божью работать спокойно.
С презрением посмотрел магистр на смеющегося казначея.
– Темно мне это как-то, и, скажу правду, грязно и черно выглядит, – ответил магистр, – с оружием в руках бороться и жизнь отдать, это я понимаю, но так…
– Так это не ваше дело, – поспешил казначей, – и вам не годится вмешиваться в это. Речь о том, чтобы вы дали молчаливое согласие: возьмётся за это за грехи свои кто-то другой…
– За что? – спросил магистр.
– За всю работу… выбор людей, без которых не обойдётся, управление сетью, дабы рыба попалась, вытягивание на берег, и остальное.
Он взмахнул рукой.
– Ну и что же мне до этого, хотя бы его даже не стало? – неохотно вскричал магистр. – Неужели там нет ни воина Витольда, ни мазовецких князей, рыцарства, и воевод?
– Но вождя убрать в минуту борьбы или его споить и голову ему заморочить. Разве мало? – молвил Мерхейм. – Здесь речь о судьбе Ордена! Ваша милость знает одно: идти в поле и биться; но в поле всякое бывает. Обещают нам все, а много из них выстоит? Король римский Сигизмунд на двух тронах сидит; венгры войну объявят и не придут, другие спрячутся. Орден имеет силы, но равные ли тем, с коими будет бороться? Я не знаю. А знаю то, что чаша весов не довешивает, бросить на неё или бутылку с напитком, или женщину, или сатану, любое на нашу сторону наклонит. Долг наказывает Ордену.
Глубоко задумавшись, сидел магистр, как бы взвешивал услышанные слова.
– Почему же вы тут не были пару часов назад, – сказал он, – и не слышали, что мне тут какой-то старец бросал на голову? Заволновалась душа моя, слушая, и приказал я его запереть в каземате, а слов его забыть не могу, так как его устами говорил Бог, или он