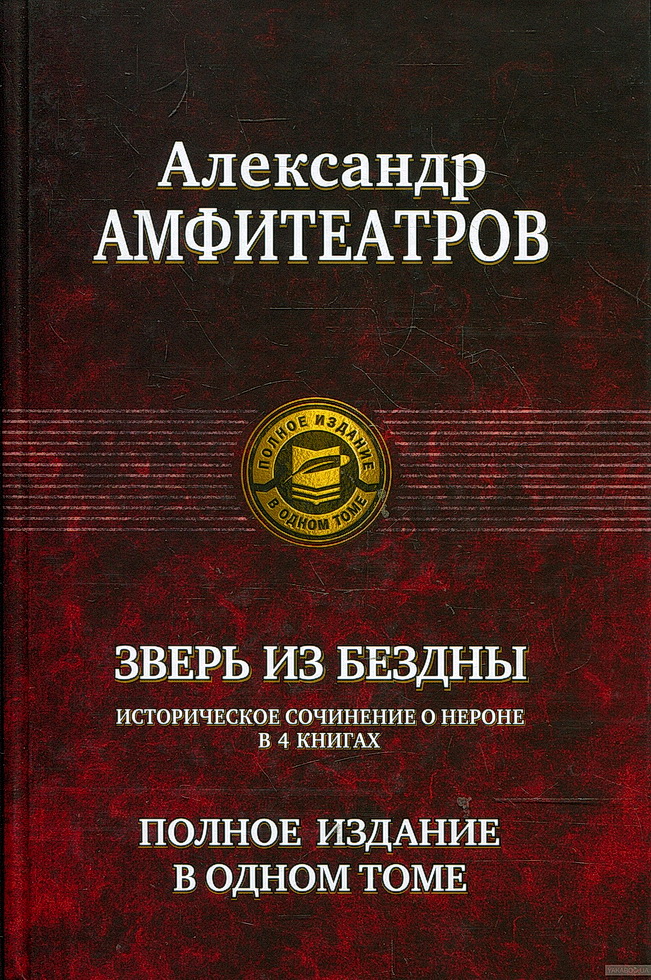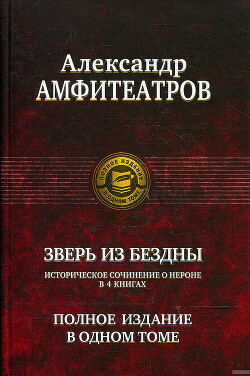солнце, беломраморный лик Аполлона Кифарэда; внизу, у ног его, — обезглавленные трупы, ванны, дымящиеся кровью, выпущенной невольными самоубийцами из перерезанных вен. Веселье вечного праздника, звуки мечтательной лиры, радужный мираж сцены и кулис, красивые стихи, изящные куртизанки, — и Вечный Город в огне, и пламя «живых факелов» пожирает людей, завернутых в смоляные рубахи.
В таком романтическом свете рисовался Нерон историкам, поэтам, литераторам, артистам и художникам почти пять столетий, отделяющих нас от эпохи, когда великое открытие или гениальная подделка Тацитовой летописи воскресили трагический Рим века цезарей пред родственными ему глазами итальянского Возрождения. Критический анализ XIX века снял с этого стихийного образа много невероятных украшений и выбледнил его сказочный колорит. Поблекло и отвергнуто значительное количество легенд, принимавшихся прежде как неоспоримые факты; аморальные поступки и увлечения, считавшиеся прежде исключительной редкостью индивидуальной порочности или даже демонической одержимости, освещены трудами невропатологов и психиатров как органические недуги, распространяемые наследственностью во всех вырождающихся обществах. Словом, Нерон-демон, Нерон — сверхчеловеческое воплощение и полубожество «царствующего зла», Нерон-Антихрист, живой противоположник жизни, этики и учения Христа, властитель, пророк и жрец «глубин сатанинских», Нерон романтиков от Гамерлинга до Сенкевича, от Пьетро Косса до Рубинштейна и Семирадского, Нерон историков-риторов, в числе их и Ренана, — такой Нерон, к нашему времени, изрядно вылинял и упростился. Но и за всем тем, как центральный человек своей эпохи, как царственный двигатель и выразитель античной культуры в весьма решительный и переломный ее момент, Нерон — фигура громадно-показательная и, в своем особом роде, действительно, романтическая. Переместилась лишь, если понятно будет так выразиться, исходная точка романтической его интересности: романтизм личности затмился, в своем индивидуальном эффекте, романтизмом коллектива, которого личность была фокусом. Изумление и ужас, воспитанные в Европе традициями сперва римско-республиканской, аристократически — философской, затем церковно-государственной и христиански-бытовой этики, даже не веками, а десятками веков видели в Нероне своеобразное «чудо истории», демонического выродка цивилизации, небывалого раньше и не повторенного историей потом. Взгляд этот слегка поколебался в конце XVII столетия, потерпел резкие поправки в пересмотре его энциклопедистами XVIII века и империалистами ХІХ-го и мало-помалу сменился скептическим доказательством, что не один Нерон был выродком цивилизации, но вся цивилизация его века, свершив сужденный ей эволюционный круг, сошла на уровень истощенного выродка, склонилась к «упадку». Нерон явился в ней только тем человеком и таким государем, каким лишь и мог естественно явиться, каким лишь и должен был логически сформироваться владычный центр и символ великого упадочного коллектива, в котором изжитое прошлое пышно разрушалось и, в жирном зловонии, разлагалось, а будущее, среди тлена этого, еще не мерцало хотя бы даже блуждающим огоньком. Настоящего не было. Старый идеал умер — новый идеал еще не родился. По середине была пустота — идейный провал, бездна гниения, разочарования и безнадежности. В ней копошились странные человекообразные существа, презирающие свое вчера и глубоко равнодушные к своему завтра. Это были люди, потому что были они человечески умны, образованы, общительны, храбры, имели законы, литературу, искусство и были настолько сильны эстетическим чувством, что оно стало в них даже как бы физиологическим, и бывали среди них уже такие, которые, без наглядной красоты в жизни, страдали едва ли не столько же, как без пищи и питья. Но они же были и скоты, потому что были они зверски эгоистичны и страстны, жестоки, жадны, свирепы и сытость всех плотских инстинктов обожали до такой животной наивности, что даже самым грязным и пошлым физиологическим потребностям спокойно отводили почетные места не только на красивых ступенях своего эстетизма, но и в религии. Во главе этой удивительной бездны людо-зверей, как ее последнее слово, поднялся и стоял тот, кому и естественно было стоять: ее избранник и любимец, — собирательный результат ее вырождения и самый типический из вырожденцев, — эстет над эстетами и скот над скотами, — великолепный и чудовищный, утонченный и первобытный, — воистину «Зверь из бездны», — цезарь Нерон.
Фантастический склад жизни Нерона и безалаберная неопределенность личного его характера, почти во всех эпизодах его биографии противоречивого и двусмысленного, дали исследователям эпохи основание признать последнего цезаря Юлио-Клавдианской династии душевнобольным. Одни настаивают видеть в нем прирожденного изверга, существо из расы людей-преступников, с почти сверхъестественным развитием всех инстинктов и способностей животного порядка при полной атрофии начала нравственного. Другие почитают Нерона сумасшедшим, различно квалифицируя его предполагаемое безумие. Третьи — только человеком с дурной наследственностью и сильно потрясенной нервной системой: несчастным выродком нескольких знатных и развратных фамилий, невропатом, который всю жизнь свою скользил по границам безумия, время от времени переступая их в буйных эксцессах тщеславия, жестокости и сладострастия. Не перечисляю покуда остальных гипотез и догадок в том же направлении: сейчас важно установить не разветвление и подробности этого взгляда — ими со временем придется мне подробно заняться в заключительной поверке и критике своих собственных выводов, — важно установить только общее правило, что все, кто в последние два века писали о Нероне и его эпохе, по данным древних источников, — все, и его хулители и его немногочисленные апологеты, дружно сходятся в признании некоторой психической недужности этого цезаря. Авторы разногласят лишь в определениях ее форм, сроков, интенсивности: спорят — что в нравственных аномалиях Нерона было прирожденного, что приобретенного жизнью и воспитанием, высока ли была их повелительная энергия, каких достигали они степеней развития и напряжения, и, наконец, были ли они постоянным и непременным злом его жизни или только случайным и перемежающимся.
В виду крайней психической сомнительности Нерона, вопрос о его наследственности должен быть рассмотрен с особенно тщательным вниманием, в особенно последовательной подробности. Проверяя родословие цезаря в четырех поколениях, нельзя не вынести заключения, что природа и культура, по крайней мере, сто лет неумолимо работали, чтобы создать из него последний роковой фокус одновременного вырождения четырех могущественных фамилий, — Юлиев-Октавиев, Антониев, Клавдиев и Домициев Аэнобарбов, — переродившихся между собою до близости почти — а в иных случаях и совершенно — кровосмесительной.
Собственно говоря, даже не четырех, но пяти фамилий, но считаю четырех потому, что, хотя Октавии утопили свою фамилию в более блестящем и завидном имени Юлиев, последние имеют к Юлио-Клавдианской династии кровное отношение только по женской линии. Основатель династии — Октавий Август — сын последней женщины-Юлии, сестры Юлия Цезаря Диктатора, который был последним мужчиной-Юлием. Племянника своего, Октавиана, он сделал Юлием через усыновление. Кровь истинных Юлиев истребилась за 124 года до гибели последнего Юлия-Клавдия, т.е. цезаря Нерона.
Кровная наследственность Нерона в прямых степенях родства с материнской стороны выражается нижеследующей таблицей.