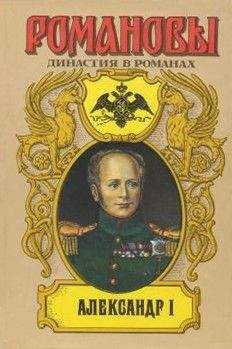Но что это значит? На обширном дворе никого не видно. Куда же подевались дворовые? Да и ворота на заперти.
Старик денщик стал стучать в калитку; на его зов вышел Игнат-дворник.
— Кто стучит? — не отпирая калитки, спросил он. — А, Михеев, ты? — посматривая сквозь железную решётку, радостно сказал дворник и поспешил отворить ворота.
— Что это? неужто молодой князь? Кажись, мёртвый, — чуть слышно спросил Игнат.
— Жив ещё наш ласковый князь; он без памяти — вот так всю дорогу, ровно мёртвый, лежит.
— Доконали, супостаты?
— Под Бородином плечо расшибло сердешному — уж не знаю, довезу ли я его живым до Каменок?
— Неужто, дед, повезёшь?
— Знамо, повезу, а не брошу здесь на волю супостатов, вишь, скоро в Москву французы придут.
— Говорят. И я про то слышал.
— А где же дворовые-то? Что их не видать?
— Да, видишь, дед, никого нет.
— Как так?
— Да так. Наш дворецкий собрал всех дворовых, приказал запрячь с полсотни подвод; наложил на подводы княжеское добро и отправил всё в Каменки, туда и дворовых послал.
— Неужто ты один остался? — удивился старик.
— Петруха-сторож и я — только вдвоём остались. Нам дворецкий беречь и хранить княжий дом наказывал и добро, что здесь осталось.
— А лошади есть? На чём мне княжича в Каменки везти? — спросил Михеев.
— Оставил дворецкий двух лошадей, затем оставил, что лошади старые, — ответил дворник.
— А повозка или тарантас есть?
— Карета осталась большая, старая.
— И славно: я в карете-то княжича и повезу.
Михеев с помощью дворника и сторожа перенёс с телеги в комнаты князя Сергея, всё ещё находившегося в забытьи. Старый денщик умел искусно перевязывать раны и бинтовать, он забинтовал плечо князя, а на голову положил полотенце, намоченное в холодной воде. Князь открыл глаза и тихо спросил:
— Где я?
— Дома, князинька, дома, в Москве, — не помня себя от радости, что князь очнулся, ответил старик.
— Дома? А где же мать и отец?
— Княгиня и князь, чай, в Каменках живут.
— В Каменках! И мне бы туда хотелось.
— Повезу, князинька; завтра утром поедем в Каменки.
— Что же — вези.
— Покушать не хочешь ли? — заботливо спросил денщик у князя.
— Пить бы мне… чаю…
— Сейчас, князинька, сейчас.
Михеев заварил чаю, добыл из княжеского подвала крепкого рома, влил ром в чай и подал князю Сергею. Тот жадно отпил несколько глотков, румянец заиграл на побледневших щеках князя, ром подкрепил и немного восстановил era силы. Князь Сергей уснул и спал долго. Сон благотворно на него подействовал: проснувшись утром, он попросил есть, и Михеев приготовил ему куриного бульона.
Стали приготовляться к отъезду в Каменки. В карету положили пуховую перину и несколько подушек и на них раненого князя; Петруху-сторожа посадили на козлы вместо кучера, и карета выехала из ворот княжеского дома по совершенно опустелым улицам.
Москва оставлена. Москва отдана на произвол неприятелю. Москва в плену.
Престарелый главнокомандующий на генеральном совете в Филях своим властным голосом громко сказал:
— Властию, вручённою мне моим государем и отечеством, приказываю отступление!
Роковые слова произнесены. Первопрестольная Москва, сердце России, оставляется на произвол, покидается без боя, и священный Кремль, эта скрижаль истории, без кровавого боя отдаётся во власть врагам. Народ, солдаты, генералы и сам главнокомандующий Кутузов плакали, расставаясь с златоглавою Москвою.
— Москва потеряна, но спасена армия. Да, да, потеря Москвы спасёт Россию, — утешал себя старый вождь, проезжая на простых дрожках через Москву позади шедшей армии. Он видел и понимал косые взгляды, которые бросали на него солдаты и народ; он читал на их лицах упрёки:
— Эх, князь, князь-батюшка, мы надеялись на тебя, думали, не покинешь ты Москву-матушку, не дашь на расхищение злым ворогам, а ты…
«Москву отдал, спас Россию», — как бы в ответ им думает престарелый вождь.
Москва в руках Наполеона — он «торжественно» въезжает в древнюю столицу, у Дорогомиловской заставы встречают победителя депутаты, состоящие из французских и немецких булочников, сапожников, портных. Отрёпанные, с опухшими от водки лицами, они сполупьяну бормочут какое-то приветствие Наполеону.
— Гоните эту сволочь! — кричит Наполеон, взбешённый такой депутацией, его душит злоба, он нервно то наденет перчатку, то снимет.
— Где же депутация? Где Ростопчин, где комендант, где ключи от Кремля? — сердито спрашивает он своих приближённых. Те стоят понуря свои головы. — Что же вы молчите? Где депутация, где московские власти, наконец, где же народ?
— Власти все разъехались, народ тоже. Москва пуста, ваше величество, — осмелился кто-то ответить Наполеону.
— Проклятие! Эти северные медведи не понимают приличия… О, я научу их, они будут знать у меня приличие…
Наполеон вскочил на лошадь и быстро поехал по дороге к священному Кремлю.
Между тем старик Михеев, не подозревая, что французы уже вступили в Москву, не торопился ехать; он знал, что быстрая езда причинит боль князю, приказал Петрухе ехать шагом, и только что они выехали на Арбат, как им навстречу показалась блестящая свита Наполеона.
— Дядя, а дядя, глянь, ведь это хранцузы, — показывая кнутовищем на скакавших, робко проговорил Петруха.
— Ври! — сердито ответил Михеев.
— Право, дяденька, они, вон, вон — ишь, скачут, черти… Батюшки, да прямо нам навстречу…
— И то, и то… Беда!..
Теперь Михеев сам разглядел французов.
— Стало быть, мы с тобою, дядя, попали.
— Что мы — велика в нас корысть французу; княжича жаль, его, сердечного, пожалуй, потревожит супостат.
— Ох, дядя, пиши пропало: задавит нас хранцуз; глянь, ведь скачет прямо на нас.
Сторож Петруха не ошибся: передовой отряд гвардии Наполеона окружил карету с раненым князем Гариным.
Петруха приостановил лошадей и робко посматривал на французов.
Французский полковник обратился к Михееву с вопросом: кто он и куда везёт раненого. Окно кареты было открыто, и французам видно было бледное лицо князя Сергея; разумеется, Михеев ничего не понял — полковник спрашивал денщика князя Гарина по-французски.
— Ишь, залопотал! Я не понимаю, не трудись, ваше благородие, — такими словами ответил старик Михеев на все вопросы французского полковника.
А Петруха, как ни робок был, не утерпел, чтобы не фыркнуть — ему показался очень смешным французский язык. К карете подъехал сам Наполеон.
— Кто этот раненый и куда его везут? — хмуро спросил он, показывая на спавшего в карете раненого князя.
Один из свитских офицеров хорошо знал русский язык. Он подошёл к Михееву и спросил:
— Скажи, старик, кого ты везёшь и куда?
— Своего князя — он ранен под Бородином, — нехотя ответил старый денщик.
— Как фамилия твоего князя?
— Гарин.
— Куда его везёшь?
— В его княжескую усадьбу.
Офицер всё передал своему императору.
— Ваше величество, прикажите окружить карету конвоем; русский князь — наш военнопленный.
С такими словами обратился маршал Дюрок к своему императору.
— К чему? Посмотри на лицо раненого: он умрёт; а мертвецы нам не нужны, и кроме того, Дюрок, храбрость я глубоко уважаю даже в моих врагах и должен тебе сознаться, мой любезный, русские очень, очень храбры и они умеют драться за свою родину, за свою независимость! И повторяю тебе: император Александр счастлив, обладая таким народом!
Наполеон отдал приказание не задерживать князя Гарина и до заставы велел сопровождать его карету отряду гвардейцев.
Первое время Михеев и Петруха думали, что их взяли в плен, но когда они выехали за заставу, начальник отряда жестом показал, что они свободны и могут ехать куда хотят, а сам повернул со своим отрядом обратно в Москву.
— Дядя, а дядя, значит, нас не забрали в полон? — радостно спросил у Михеева сторож Петруха, который занимал место кучера.
— Эх, дурень! Зачем мы с тобой французам!
— А всё же, дяденька, эти хранцузы народ ничего — жалостливый, словоохотливый.
— Молчи, дубина! Ишь, вздумал хвалить врагов своего отечества! По военной субординации за эти твои слова тебя расстрелять надо! — крикнул Михеев на Петруху; тот прикусил язык и стих.
Проехав несколько вёрст от Москвы, Михеев принуждён был остановиться в одной подмосковной деревушке на ночлег, потому что усталые лошади чуть тащили ноги, да и настал вечер, а вечером ехать неудобно.
Едва только смерилось, как багровое зарево покрыло небосклон и стало распространяться всё шире, всё багровее. Это горела полонённая Москва.
От страшного зарева было светло, как днём.