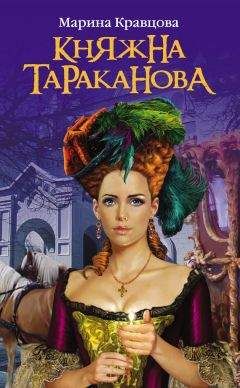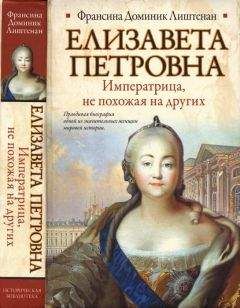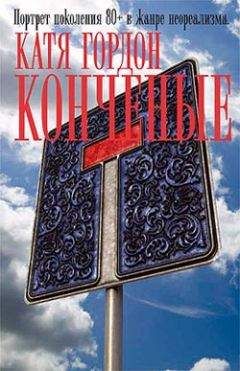– Постарел, Сергей Александрович, – голос остался прежним, и у Сергея заныло в груди. – Сколько лет… Что же, рада тебе, гостем будь.
Он рухнул ей в ноги.
– Матушка! Помоги! Говорят, твои молитвы слышит Господь. Помолись! Беда меня к тебе привела, сын мой… единственный… при смерти он. А в нем – вся моя жизнь, умрет – не дай Бог! – и я жить не стану. Ничего, никого, кроме него…
– Как никого? А Господь?
Сергей Александрович смущенно молчал.
– Сам-то ты молился о сыне?
– Молился, – пробормотал Ошеров.
Мать Досифея вздохнула.
– Как молился, Сережа? Бормотал про себя что-то невнятное? Ты же отец! Не слышал разве, что молитва родительская со дна моря достает? Не передо мной тебе на колени бухаться надо, Сергей Александрович… Ну, ты с колен не вставай, а только вот туда повернись, – Досифея указала на божницу. – Все Господь вершит. Я, Его грешная раба, служить Ему по мере сил стараюсь, да только угодны ли Ему потуги мои, вот что… Он – Отец наш. Вот и ты взывай, ты, отец, к чувству Его отцовскому. Ну, и я, грешница, с тобой помолюсь. Где двое во Христе, там и Он с детьми Своими.
Подняв взгляд на образ, Сергей Александрович увидел живые глаза Спасителя… Впервые в жизни. Он не стал раздумывать об этом, он начал, опять же впервые в жизни, молиться всем существом, со слезами, сердечно, непрерывно… Рядом возносила к Богу молитвы инокиня Досифея.
Сколько прошло времени, Сергей Александрович не мог бы сказать. Но он почувствовал вдруг явственно, что услышан, что просьба его принята, и тут силы оставили его. Он с трудом поднялся – ноги затекли и болели. Досифея взглянула ему в лицо, взгляды пересеклись, и Ошеров увидел, что чудесные глаза монахини блестят от слез. Сергей Александрович подошел к большому распятию в углу, приложился к нему, перекрестился. Он должен был, казалось, рваться домой, к сыну, но ему вдруг очень захотелось еще немного побыть здесь, где запах ладана и воска, где Господь глядит с иконы прямо в глаза живым, потрясающим душу взглядом…
– Совет дам, – прошептала Досифея. – Исполнишь?
Ошеров кивнул.
– На исповедь сходи. Давно не был?
Ответом было молчание.
– Вот-вот, и не медли. Подумай, не тебя ли ради болезнь сыну твоему послана… Сын в Бога верует?
– Николенька каждое воскресенье в церковь ходит, нянька приучила.
– Хорошая нянька. И ты с ним ходи почаще, Сережа. Благословение ему от меня передай.
Сергей опустил голову. Почувствовал, что пора уходить. И вновь смятение охватило его… Не хотелось вспоминать, да само все вспомнилось…
– Князь Потемкин передал мне ваши четки…
Мать Досифея вновь посмотрела ему в глаза и ответила без обиняков.
– Не сокрушайся, Сергей Александрович. На роду тебе написано не иметь счастья в любви. Да не главное это, поверь. Счастье-то… Оно каждому свое, а все одно и то же – волю Господню о себе исполнить. А другого-то и нет. И быть не может… Пойми.
Переступив порог комнаты сына, Сергей Александрович первым делом увидел радостно блестящие глаза Николеньки.
– Пришел в себя! Мальчик мой, слава Богу!
Николенька протянул отцу руку.
– Что со мной было? Я ничего не помню. Сейчас мне хорошо.
Ошеров сжал обеими руками тонкие пальцы сына, прижал к губам. Он с трудом сдерживал слезы облегчения.
Оба врача что-то наперебой лопотали, но ни отец, ни сын их не слушали. Николенька пытливо вглядывался во взволнованное лицо отца, ему очень хотелось о чем-то спросить, но он не решался…
Глава девятнадцатая Век старый, век молодой…
С выздоровлением Николеньки жизнь пошла своим чередом, только Сергей Александрович начал теперь время от времени посещать богослужения в ближайшем храме. А вскоре жизненная обыденность была взорвана потрясающим известием: император Павел был убит заговорщиками. Наследовал ему великий князь Александр, обожаемый внук Екатерины. Знать его воцарение приветствовала воодушевленно – Павла не любили. Простые же люди оплакивали убитого императора.
Алексей Григорьевич не замедлил возвратиться из-за границы, где все годы недолгого царствования Павла проживал с дочерью Анной и Марьей Бахметевой. Путешествие, хоть и вынужденное, пошло Орлову на пользу, оно укрепило его здоровье, развлекло, подняло дух.
– А дома лучше! – все-таки говорил он Ошеров ым.
Сергей Александрович был рад его возвращению несказанно. Теперь это был не просто близкий друг – граф Алехан стал для старшего Ошерова живым отголоском только что закончившегося века. Его века, ушедшего невозвратно, как молодость. Века, вместе с которым ушли Григорий Орлов и Григорий Потемкин, ушла государыня Екатерина, и даже жизнь сына ее, Павла, завершилась одновременно с веком. Это был медленный закат, хотя Сергей Александрович вовсе не ощущал себя стариком. Но при этом же он наблюдал, что все безвозвратно устаревает, что все теперь по-другому, что модник Николенька щеголяет в одеждах иного фасона, иной становится речь, и все будет иным – и мысли, и идеалы, и понятия. То же чувствовал и Орлов. В ушедшем веке он оставил братьев, жену, даже единственного сына…
Безвременная смерть Саши Чесменского потрясла Орлова, он сильно переживал, но не ощущалось в нем безмерного отцовского отчаяния. Никогда отец и сын не были близки, а в последние годы отчуждение стало особенно сильным.
И с дочерью Алексей Григорьевич не смог сойтись по душам. Анюта уезжала за границу еще девочкой, вернулась девушкой с вполне сложившимся характером. Скромная, тихая, религиозная, нелюдимая… Не чувствовалось в ней, с горечью замечал отец, орловской породы.
Однажды, будучи в гостях у Николеньки, Анюта тихонечко вышла незамеченной из залы и направилась в библиотеку, где вскоре обнаружил ее Сергей Александрович. Девушка внимательно просматривала немногочисленные духовные книги.
– Анюта, вы здесь? – удивился Ошеров.
– Ох, Сергей Александрович…
Она смущенно улыбнулась.
– Для чего же вы покинули общество, графинюшка?
Юная графиня не знала, что отвечать. Она неловко положила книгу на стол.
– Возьмите с собой, Анна Алексеевна, Николенька будет рад услужить вам.
– Это его книги?
– Да, его. Я никогда не был охотником до чтения.
– У Николая Сергеевича хороший вкус.
– Рад слышать, – улыбнулся Ошеров.
Они помолчали. Анюта вдруг покраснела, потупилась и тихо произнесла:
– Отец всегда хотел, чтобы мы с Николенькой поженились… Николенька очень хороший, но я никогда не выйду замуж.
– Почему же? В монахини желаете?
– Нет, для монастыря я слабая, – серьезно сказала Анюта. – Буду, как Господь даст. А замуж… призвания нет.
Он задумалась.
– Буду молиться, как умею. Мне хорошо одной. Я привыкла…
– В этом вы похожи на… одну чудесную женщину, – признался вдруг Сергей Александрович.
Анна подняла на него вдумчивый взор.
– Вы любили ее?
Сергей не смог сдержать улыбки.
– Анюточка, деточка, да разве об этом спрашивают? Да еще так… напрямую.
Она покраснела и совсем смутилась.
– Простите…
Сергей Александрович ласково глядел на девушку, он понимал ее и сознавал, как одиноко и грустно ей в доме отца, всегда шумном, кипящем, где все не по склонностям, все чуждо, и нет друзей, нет никого, кроме Марьи Бахметевой.
– Да, я любил ее, – ответил он на вопрос юной графини.
– А я никого не люблю и не любила… Я все думаю… вы знаете, как умер мой дядя Григорий?
– Да.
– Царствие ему Небесное. Мне рассказывали. Я верю, что Господь простил ему все прегрешения, потому что, говорят, он сильно мучался. Может быть, болезнь ему была в искупление. Я буду молиться за него.
Ошеров подошел и поцеловал девушку в лоб.
– Молитесь, ангел. Вас услышат с небес. И за меня, великого грешника, помолитесь…
* * *
По воцарении Александра Павловича Николенька смог, наконец, подать в отставку. Очень не понравилось это старшему Ошерову, но возражать он не стал, и сын с облегчением сменил мундир на фрак.
– Где же теперь служить-то будешь? – спрашивал его отец.
– Придумаю что-нибудь, – бездумно отвечал Николенька.
Но проходило время, а Николай, ничего не придумав, продолжал вести беззаботную светскую жизнь. Отец пытался ему выговаривать, Николенька смотрел на него и улыбался своей странной улыбкой – губы улыбались, а глаза словно стекленели, глядя в никуда, и у Сергея Александровича слова застревали в горле.
«Непростой мальчишка, ох непростой, – думалось ему в такие минуты. – Скрытен, себе на уме… а так, по виду, и не скажешь».
Взгляд этот отца тревожил. Не только упреки не достигали цели, казалось, возьми сейчас булавку и начни втыкать ему в ладонь, а он так и с места не тронется и будет улыбаться непонятной своей улыбкой…
В обществе Николенька имел большой успех. Он бы и в Петербурге блистал, а в Москве тем паче. Веселый, очаровательный, приветливый ко всем. Дамы в него влюблялись, в юношеской компании молодому Ошерову пытались во всем подражать, и молоденькие мальчишки невольно попадали под его влияние. А вскоре Николай Ошеров стал известен как ревностный патриот, и оттого сделался неприятен иным кругам. Тем, кто осмеливался при нем с новомодным презрением отзываться о собственном Отечестве, бойкий Николенька, невзирая на титулы и чины, затыкал рот остроумными колкостями и удачными цитатами из книг, и его тут же поддерживали его юные дерзкие «оруженосцы». Но больше всего забавляло молодого Ошерова, что патриоты его тоже недолюбливали. Не понимали, почему при подобном образе мыслей, он болтает в обществе только по-французски, почему щеголяет в нарядах, шитых у иностранцев по иностранной моде. «Нет, – сделали вывод патриоты, – не серьезно…» То же думал и старший Ошеров.