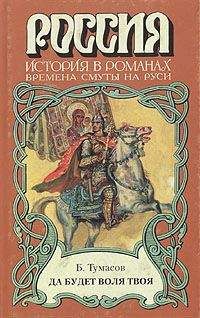На Сретенье первое ополчение изготовилось. В Туле стал Иван Заруцкий с Мариной Мнишек и царевичем Иваном, в Калуге Дмитрий Трубецкой, из Рязани выступил Прокопий Ляпунов.
Им в подмогу собирались отряды стрельцов, казаков и татар во Владимире, Суздале, Костроме, Ярославле да по иным городам российским.
Списались воеводы и определились: в марте-березозоле, когда весна-красна в полную силу еще не вступит, но стихнут вьюги и потеплеет, к Москве двинуться…
Не успели московские послы Оршу миновать, как дорогу им перекрыл конный разъезд. Остановились колымаги. Открыл Филарет дверцу, опустился на снег. Тут и Голицын с остальными людьми посольскими подошел. Бравый хорунжий, не слезая с седла, подбоченившись, объявил именем короля, что в Варшаву велено впустить митрополита и князя Голицына, а остальным ворочаться в Москву, да чем раньше, тем лучше, ибо он, пан Спыхальский, за жизнь москалей не в ответе.
Едва Мстиславский переступил порог сеней, как проворные девки подскочили — одна веничком снег с валенок сметает, другая шубу стягивает. Покуда княгиня из горницы выплыла, покачивая пышными телесами, Мстиславский первую девку ниже спины шлепнул — эко задаста, вторую к груди прижал, телом упруга, ровно яблоко наливное. Девки взвизгнули, однако не убежали. Князь любил поозоровать, несмотря на годы.
Мстиславский причмокнул:
— Сладки девки-ягодки!
Через горницу прошагал, сел у печи на покрытый ковром рундук, задумался: ляхи бесчинствуют, а Гонсевский посмеивается: «То-то будет, когда королевич приедет».
Намедни, явившись в Думу, гетман заявил:
— Не Владислава государем звать, а круля!
Бояре взроптали, а Гонсевский гусарами пригрозил. Дума на Владислава соглашалась, но не на Жигмунда. Король Московию вотчиной почнет мнить, частью Речи Посполитой.
Одна и надежда на посольство, с чем воротятся…
Государственная машина «Семибоярщины» давала сбои. Зависимость от Речи Посполитой, ставка на Владислава и, наконец, согласие впустить ляхов в Москву вконец подорвали веру москвичей в боярское правительство.
Понимали это и князь Мстиславский и те, кто составил «Семибоярщину». Не получив поддержки у патриарха, они безропотно служили новому московскому старосте и начальнику Стрелецкого приказа Гонсевскому.
Пан Гонсевский командовал Думой, как своими хорунжими, а из бояр иногда выслушивал Мстиславского да Михаилу Салтыкова. Боярин Салтыков служил полякам еще со времени первого самозванца. С той поры и с Гонсевским познался. Салтыков так рассуждал: удержатся ляхи в Москве — ему в силе быть, побегут — и ему с ними подаваться.
«Семибоярщина» опасалась восстания в Москве. А оно зрело. И тому виной сами ляхи: они грабили город, изрядно набивая свои походные сумы всякими драгоценностями.
Как-то пришли к Гонсевскому Мстиславский с Салтыковым, сели на лавку, на посохи оперлись.
— Ох, пан гетман, — вздохнул Салтыков, — чует душа, быть бунту.
Гонсевского страшить мятежом нет надобности, он страха испытал, когда, посланный королем к первому самозванцу, стал очевидцем восстания московитов.
Староста московский и начальник Стрелецкого приказа слушал бояр хмурясь, потирал едва тронутые сединой виски.
— У нас, панове, на смутьянов довольно сабель и пищалей.
— Ох, пан гетман, — снова сказал Салтыков, — как ты, а я не забыл ту ночь, когда Шуйский Москву возмутил.
— По москалям кнут плачет, — прервал Михайлу гетман.
— Пан гетман забывает, мы тоже москали, — возмутился Мстиславский.
— То о холопах речь, ясновельможные панове. — Подергав ус, Гонсевский спросил: — Какой совет подадите, панове?
— Шляхтичам бы по совести жить и люду обид не чинить, — заметил Мстиславский.
А Салтыков сказал:
— Не следует, пан гетман, шляхте по всей Москве жить, им бы сообща держаться, в Кремле и Китай-городе. И коли случится бунт, воинство не в расплохе будет. Не ровен час, Трубецкой с Заруцким и Ляпуновым к Москве подойдут.
Гонсевский согласился:
— Разумен ваш совет, панове. На заставах наши караулы не одиножды оружие находили. Против нас готовят…
Ушли бояре, а гетман позвал ротмистров и хорунжих:
— Панове, вы забыли, в какой варварской стране находитесь. Москали обид не прощают, а потому завтра, вельможные панове, постой вашим хоругвям и ротам — Кремль и Китай, а пушки коронного войска уставятся зевами на Белый и Земляной города. Пусть чертовы москали поднимут головы, и не будет им пощады.
Сырым январским днем добрались московские послы до Варшавы. С пасмурного неба падали мокрые хлопья снега, таяли на конских крупах. Проскрипели санные полозы куцего посольского поезда по унылым варшавским улицам, свернули к Гостиному двору. Пока холопы разбирали поклажу, Филарет с Голицыным вошли в полутемное помещение. В отведенной им камере стыло и зловонно, а по стенам едкими потеками расползалась плесень. Чадила в поставце плошка. Неуютно и сиротливо.
— Ровно конура псиная, — заметил Голицын. — Одно и утешение, вскорости на Русь воротимся.
Но Филарет, увидев, как хорунжий приставил к нему караул, рассудил по-иному:
— Эвон что Спыхальский ответил на вопрос, когда нас Жигмунд примет? То-де круля ума! Нет, князь Василий, видать, Жигмунд нас долго вознамерился держать в Речи Посполитой…
Месяц и два живут послы на Гостином дворе, все запасы проели, а шляхта зубоскалит:
— Круль поступает с москалями как с холопами.
Вечерами в каморе полумрак, Голицын с Филаретом жевали размоченные в крутом кипятке сухари, на жизнь сетовали.
— Жигмунд нас в залоге держит, голодом морит, — плакался Голицын. — Доколь?
Молчит Филарет: откуда ему знать, когда конец их мытарствам. Но митрополит не ропщет, знает, на что согласие давал. И о еде князь Василий не прибавлял: скудно содержали послов, а их обоз, что следовал за посольским поездом, хорунжий Спыхальский поворотил на Русь.
— Как мыслишь, владыка, отчего меня Дума в посольство нарядила? — спросил однажды Голицын. И, не дожидаясь, ответил: — Не хотели, чтобы меня Собор государем назвал.
Филарет с Василием согласен. Невмоготу послам, кому пожаловаться? Зима минула, на весну повернуло, а Жигмунд будто забыл о них. А однажды привезли послов к канцлеру Сапеге. Дородный канцлер принимал их надменно и на вопрос Голицына, доколь им в Варшаве маяться и когда их король в Москву отпустит, ответил важно:
— То Господу известно и крулю.
Митрополит заметил:
— Жизнь наша, вельможный пан Лев, не по чину. Мы, послы московские, Русь представляем, и с тем считаться надобно.
Сапега хмыкнул:
— Ты, владыка, к чести взываешь, аль позабыл, как меня на Москве бесчестили? А еще наших шляхтичей в Ярославле держали?
Филарет возразил:
— Ваши паны, вельможный канцлер, не послами на Русь пожаловали, а с самозванцем в Москву въехали, да еще бесчинства творили.
Сапега хмыкнул:
— Вы, послы, кому кланяться присланы? Ежели королевича на престол звать, так его ныне в Варшаве нет, он в Кракове, и когда прибудет, нам неведомо. Но коли Жигмунда царем назвать пожелаете, круль вас и сегодня выслушает. Тогда и дорога вам на Русь откроется.
Филарет посохом пристукнул:
— Нам такого приговора от Думы нет!
Канцлер захохотал:
— Панове, овощу созреть месяца достаточно, а вам, москалям, ума набраться зимы мало. Войско коронного в Москве, и не Владиславу, а крулю хвалу воздавайте.
— Вельможный канцлер, — прервал Сапегу Филарет, — Жигмунд может силой усесться на царство, да как на то московская земля отзовется? На Руси Земский собор есть, он себе государя избирает. Ныне же не насилуй воли нашей посольской.
Голицын поддакнул:
— Воистину, вельможный пан Лев.
Пригладил Сапега усы, глянул на послов насмешливо:
— Не к добру упрямство ваше. Думал я, московитами разум правит, ан ошибся. Девидзеня, панове, дозревайте в Варшаве: в Московию дорога вам заказана.
В Охотном ряду мясники возмущались:
— На Арбате ляхи в церковь ввалились, шапок не скидая, рыла не перекрестив. Отца Варсонофия за бороденку таскали: не перечь-де, поп, нашей воле!
— Ироды!
— Латиняне храмы наши не чтут!
— Попа за бороду, а у мирян рты на замок?
— Люди князя Пожарского тех ляхов проучили да еще сабли отняли.
— Доколь терпеть? Женок и девок обижают, дома грабят, над верой глумятся.
Бряцая доспехами, прошел отряд шляхтичей. Его проводили косыми взглядами. Заговорили вслед:
— До поры терпелив наш народ.
— Когда тому конец?
— Скоро, скоро. Как заслышишь набат, оружайся — и на улицу, ляхов крушить!..
Расходились, грозя: